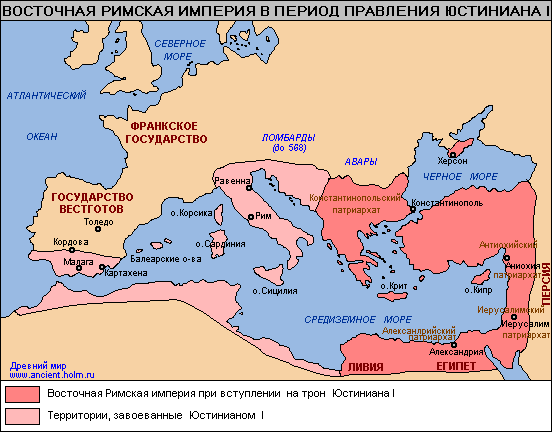- Внешняя политика Юстиниана
- Завоевания на Западе
- Защита империи
- Внешняя политика юстиниана
- Западная политика Юстиниана Великого. Часть I — Академия «Фомы»
- Все лекции цикла можно посмотреть здесь.
- Внешняя политика Юстиниана
- Внешняя политика Юстиниана и ее последствия
- Внешняя политика Юстиниана
- Лекция: Образ Юстиниана как политика и дипломата: цели и методы проведения внешней политики
Внешняя политика Юстиниана
Известно ее главное направление: восстановить Римскую империю. Можно четко выделить основные этапы. Чтобы развязать себе руки на Западе, Юстиниан наскоро завершил персидскую войну. Затем он отвоевал Африку у вандалов, Италию у остготов, часть Испании у вестготов. Хотя он нигде не дошел до прежних границ Рима, ему удалось, по крайней мере, вновь превратить Средиземное море в «римское озеро». Но тогда Восток просыпается: снова война с персами, империи угрожают вторжения гуннов и славян. Изнуренный Юстиниан более не сражается, он платит дань. При помощи ловкой дипломатии он удерживает варваров на расстоянии, а строя сложную и глубокую оборонительную сис- тему, превращает империю в «огромный укрепленный лагерь» (Ш. Диль).
Завоевания на Западе
Римская империя не смогла решить ни германской проблемы, ни персидской. Огромные усилия Траяна оказались напрасны. Юлиан погиб на поле боя, а его преемник Иовиан оставил левый берег Тигра. Военные походы 521-531 гг. под руководством одного из лучших полководцев Юстиниана Велизария не дали решающих результатов. Торопясь их закончить, Юстиниан заключил в 532 г. с новым персидским царем Хос-роем, несмотря на весьма жесткие условия, «вечный мир» (на самом деле это было ничто иное как перемирие). И тотчас его устремления обратились на Запад.
Об отвоевании Запада мечтало римское православное население, не смирившееся с владычеством варваров-ариан. Наступление началось в Африке — против королевства вандалов, основанного Гейзерихом. Предлогом послужила узурпация власти Гелимером в 531 г. Блестящая кампания Велизария, начавшаяся в 533 г., год спустя принудила Гелимера к капитуляции. Правда, восстания берберов поставили под сомнение эту победу: преемник Велизария в Африке Соломон был побежден и убит. Но в 548 г. Иоанн Троглита окончательно восстановил порядок. За исключением западной части Марокко Северная Африка вновь стала римской.
Кампания против остготов была более трудной и длительной. Она началась в 535 г., сразу же после победы в Африке, якобы в ответ на убийство дочери-наследницы Теодориха Великого Амала-сунты ее мужем Теодатом. Велизарий отвоевал Далмацию, Сицилию, Неаполь, Рим и столицу остготов Равенну. В 540 г. он толкнул к ногам Юстиниана в Константинополе плененного короля остготов Витигиса. Но все было вновь поставлено под вопрос из-за энергичного сопротивления нового готского короля Тотилы. Велизарий, имевший в своем распоряжении небольшую армию, был разгромлен. Его преемник Нарсес действовал успешнее и после длительной и умелой кампании одержал решительную победу в 552 г.
Наконец, в 550-554 годах Юстиниан захватил несколько опорных пунктов на юго-востоке Испании. Император принял множество мер, призванных восстановить прежнюю организацию на возвращенных территориях, разделенных на две префектуры — Италию и Африку. Однако он смог осуществить лишь часть своих планов. Западная Африка, три четверти Испании, вся Галлия с Провансом, Норик и Реция (то есть прикрытие Италии) ему так и не достались. Отвоеванные территории находились в бедственном экономическом положении. Военных сил, чтобы занять их, не хватало. Варвары, отброшенные от границ, но не разгромленные, по-прежнему представляли угрозу.
Угроза с Востока. Тем не менее эти неполные и непрочные результаты стоили империи очень больших усилий. В этом убедились, когда Хосрой, воспользовавшись тем, что Юстиниан измотан сражениями на Западе, расторгнул договор о «вечном мире» 532 года. Несмотря на все усилия Велизария, персы долго одерживали победы, они дошли до Средиземного моря и опустошили Сирию (Антиохия была стерта с лица земли в 540 г.). Юстиниану не раз приходилось покупать перемирие за две тысячи фунтов золота в год. Наконец, в 562 г. был подписан мир на пятьдесят лет. Юстиниан обязался выплатить персам очень крупную контрибуцию и не проповедовать христианства в их стране. Однако персы ушли из Лазики, или страны лазов (древняя Колхида), территории на восточном побережье Понта Эвксинского, которую они долго оспаривали у римлян. Они не закрепились ни на Средиземном, ни на Черном морях, где их присутствие также было бы опасным для Византии. Но угроза тотчас возникла на дунайской границе. Она исходила от гуннов и славян. Гунны периодически переходили Дунай и захватывали Фракию, затем спускались южнее и грабили Грецию или направлялись на восток, доходя до самого Константинополя. Их всегда отбрасывали к границам, но эти набеги разоряли провинции.
Славяне беспокоили еще больше. Возможно, их отряды несколько раз вторгались в империю уже при Анастасии, но во времена Юстиниана славянская опасность, неотделимая впредь от истории Византии, впервые проявляется со всей серьезностью. Более или менее осознанные намерения славян сводились к желанию получить выход к Средиземному морю. Своей целью с самого начала они избрали Фессалонику, которая уже при Юстиниане пользовалась репутацией второго города империи. Почти каждый год отряды славян переправлялись через Дунай и совершали набеги на внутренние районы Византии. В Греции они доходили до Пелопоннеса, во Фракии — до предместий Константинополя, на западе — до Адриатики. Византийские полководцы всегда заставляли славян отступать, но ни разу их не разгромили; на следующий год еще более многочисленные отряды славян появлялись вновь. Эпоха Юстиниана «положила основание славянскому вопросу на Балканах» (А. Васильев).
Защита империи
Незавершенные завоевания на Западе, тягостная оборона на Востоке: было очевидно, что империя опрометчиво рассчитывает только на военную силу. Армия имела превосходные боевые соединения (например, кавалерию), но ее численность не превышала 150 тыс. человек, ей не хватало внутреннего единства (слишком много варваров-«федератов») и, наконец, у нее были недостатки любой наемной армии, алчной и недисциплинированной. Чтобы сократить нагрузку на солдат, Юстиниан покрыл всю территорию империи фортификационными сооружениями. Это было одно из самых значительных и самых полезных дел его царствования, вызвавшее восхищение и удивление историка Прокопия Кесарийского. В своем трактате «О постройках» Прокопий перечисляет военные сооружения императора и замечает, что тот, кто увидит их собственными глазами, с трудом поверит, что они созданы по воле одного человека. Во всех провинциях Юстиниан повелел отремонтировать или соорудить сотни построек, от крепостей до простых замков. Естественно, недалеко от границы их было значительно больше и располагались они ближе друг к другу, но укрепления возводились и во внутренних областях, образуя несколько оборонительных линий: все стратегические пункты охранялись, все сколько-нибудь значительные города были защищены.
Отрядам варваров, если им еще хватало сил на частые опустошительные набеги, приходилось обходить крепостные сооружения, которые они не умели захватывать, то есть удержаться в стране они не могли. Искусная организация дополнялась умелой дипломатией, справедливо названной «наукой управления варварами». В соответствии с этой наукой византийцы, щедро раздавая вождям варваров, торжественно принятым при дворе, почетные титулы или командные должности, с выгодой использовали тщеславие, свойственное варварам, и авторитет, которым пользовались в их глазах империя и император. Поощрялась также христианизация варварских стран, куда одновременно с религией проникало влияние Византии. Многочисленные и обычно успешные миссии доходили до северных берегов Черного моря и до Абиссинии. И наконец, между варварами распределялись субсидии и плата за мир.
Впрочем, последний прием лишь обнаруживал слабость остальных. Прокопий замечал, что было крайне опрометчиво разорять казну, выплачивая компенсации, — это вызывало у их получателей лишь желание добиваться новых. Однако таково неизбежное следствие ошибки, с самого начала допущенной Юстинианом. Он истощил свои силы на Западе ради иллюзорных результатов. Они достались слишком дорогой ценой вынужденной изнурительной обороны на Востоке.
Источник
Внешняя политика юстиниана
Западная политика Юстиниана Великого. Часть I — Академия «Фомы»
Михаил Ведешкин, кандидат исторических наук
Все лекции цикла можно посмотреть здесь.
Наверное, самыми яркими моментами долгого правления императора Юстиниана Первого стала его внешняя политика, а конкретно его восстановление имперской власти на западе.
В V столетии Западная Римская империя пала под ударами варваров. На ее осколках образовалось несколько варварских государств: готов, государство вандалов, вестготов, франков, бургундов, алеманнов, множество англо-саксонских государств в Британии.
В VI веке при Юстиниане империя делает самую внушительную попытку возвратить под свой прямой контроль недавно потерянные территории. Первой жертвой внешней политики Юстиниана стало царство вандалов. Вандальская экспедиция во многом удовлетворяла и внутренним, и внешним интересам Восточной Римской империи.
С одной стороны Юстиниан после восстания «Ника» стремился отвлечь народные массы и аристократию от внутренних проблем масштабными военными действиями. С другой – ему было необходимо обезопасить побережье Средиземного моря и морские границы Восточной Римской империи от постоянных нападений вандальских пиратов.
Надо сказать, что к началу VI века вандалы подрастеряли свой легендарный пыл. Пока жив был великий Гейзерих, вандалы наводили ужас на все Средиземноморье. Но при его наследниках они явно обленились.
Вандалы вкусили все прелести цивилизованной жизни, и вандальская аристократия начала щеголять знанием литературы, роскошью стола, бассейнами и виллами. Прокопий Кесарийский уже в VI веке называл этих недавних варваров самым изнеженным народом на земле.
Тем не менее при вандальском дворе существовала партия, которая постоянно пыталась напомнить вандальским вождям о былых днях военной славы и возбудить их воинственный пыл.
Собственно, проримская, более спокойная партия, которая была ориентирована на улучшение отношений с местным римским населением, нормализацию взаимодействия с Католической Церковью, находилась в постоянной борьбе с более агрессивной традиционалистской партией вандальской знати, которая всячески стремилась продолжать давить римлян, изничтожать кафоликов, насаждать арианство, бывшее официальной религией вандалов.
В первое десятилетие V века при короле вандалов Тразамунде восторжествовала более мягкая партия. Тразамунд пытается наладить отношения с кафолическим клиром, прекращает гонения на епископов-кафоликов, не столь рьяно поддерживает ариан.
В общем-то, эти внутренние действия Тразамунда во многом связаны с его попытками наладить отношения с Восточной Римской империей.
Однако недовольные партии арианствующей вандальской знати свергают Тразамунда и возводят на престол гораздо более радикального Гелимера.
Этот переворот в Карфагене позволяет Юстиниану властно вмешаться в североафриканские дела. Он требует от Гелимера освободить своего союзника Тразамунда, и когда Гелимер отказывается, начинает готовить экспедицию против вандалов. Экспедиция была невелика, всего несколько тысяч человек под началом великого полководца VI века – Велизария.
Флот Велизария проследует с Балканского полуострова через Сицилию и достигнет Северной Африки незамеченный вандалами.
Дальше в ходе нескольких сражений вандальские войска будут на голову разгромлены византийской экспедицией, и Велизарий возьмет Карфаген. Активные военные действия против короля Гелимера продлились лишь чуть более года.
К 534 году казалось, что вандальская война выиграна, царство вандалов в Северной Африке уничтожено.
Действительно, империя получает почти все территории, которые раньше входили в африканские провинции, но получает их от вандалов с теми же проблемами, с которыми столкнулись вандалы. Это проблема обороны границ от диких мавританских и берберских племен и проблема социальная.
Император Юстиниан всячески пытается восстановить здесь ту систему социально-экономических отношений, которая существовала до крушения римской власти.
Он поддерживает крупное землевладение, поддерживает Кафолическую Церковь против ариан – все это идет за счет ущемления интересов широких народных масс, которые сначала встречали византийцев как освободителей, но уже очень скоро, испытав тяжкий гнет византийского ига, поняли, что новые хозяева этой земли едва ли чем-то лучше вандалов.
В итоге уже через год после крушения вандальского царства в этом регионе начинаются постоянные, непрекращающиеся мятежи местных жителей: мавров и берберов, а также византийских солдат, которые не только не получили здесь земли, на которую поначалу надеялись, но им перестали выплачивать жалованье.
Если покорение вандальского царства заняло чуть менее чем два года, то борьба с мятежниками и окончательное усмирение Африки длятся более десяти лет.
Внешняя политика Юстиниана
Византийская дипломатия при императоре Юстиниане.
В последний период своего существования Римская империя почувствовала необходимость искусства ведения переговоров. В этом деле византийские императоры достигли исключительной изобретательности.
Они ослабляли варваров, разжигая раздоры между ними, приобретали дружбу пограничных племен и народов субсидиями и лестью или обращали варваров в христианство.
Комбинируя применение этих дипломатических способов в своей внешней политике, Юстиниану удалось распространить свое влияние на Аравию и Абиссинию и держать в страхе племена, жившие около Черного моря и Кавказа. Такие же методы стали применяться в более позднюю эпоху, когда Византии стали угрожать болгары, мадьяры и русские.
Постоянные усилия византийских императоров подкрепить силу оружия дипломатическими комбинациями, и способы, которые они при этом применяли, внесли новый элемент в дипломатическую практику.
Метод разжигания вражды между правителями соседних стран делал необходимым для правительства в Константинополе получение точной информации о честолюбивых замыслах, слабостях и ресурсах тех, с которыми оно собиралось иметь дело.
Поэтому послы византийских императоров не только представляли интересы империи при дворах правителей иностранных государств, но также составляли подробные донесения о внутреннем положении чужих стран и о взаимоотношениях этих стран между собой. Для этой цели нужно было обладать не только качествами посланника или оратора.
Нужны были люди наблюдательные, с большим опытом и присутствием здравого смысла. Таким образом, постепенно развился тип профессионального дипломата. Постепенно посланник трансформировался в оратора, а оратора сменил опытный наблюдатель.
Восточная Римская империя
достигла в царствование Юстиниана наивысшего могущества. Ее дипломатические связи охватывали огромное пространство от Китая и Индии до Атлантического океана, от Внутренней Африки до причерноморских степей. Юстиниан умело чередовал применение виртуозной дипломатической политики с точными военными ударами, которые расширили пределы его империи далеко на запад.
Осуществление грандиозного плана восстановления Римской империи
требовало постоянной и напряженной
деятельности дипломатии в различных
регионах мира.
Для завоевания западной части бывшей Римской империи, прежде всего, следовало обеспечить безопасность на востоке и севере, попытаться избежать войны с Ираном, нейтрализовать варваров на Дунае, найти союзников среди окружавших империю народов.
В варварских королевствах Запада ситуация также требовала больших дипломатических усилий для привлечения на сторону Византии всех недовольных господством вандалов в Северной Африке, остготов в Италии и вестготов в Испании. «Происходит живой обмен посольствами; Юстиниан внимательно следит за событиями и настроениями общественного мнения в Италии.
Ему делали подробные донесения его послы обо всем происходившем в Равенне и в Риме и, между прочим, о неудовольствиях между Теодатом и правительницей, с одной стороны, и о непопулярности соправителя – с другой».
81 В связи с этим Юстиниан для оценивания обстановки отправил в качестве посланника к остготской королеве Амаласунте ритора Петра Патрикия, который прославился особой силой убеждения в судебных разбирательствах в Константинополе.
«Петр же в качестве посла был уже в пути; ему были даны императором предварительные инструкции встретиться тайно от всех других с Теодатом и, дав ему клятвенные уверения, что ничего из того, о чем они ведут переговоры, не станет кому бы то ни было известным, спокойно заключить с ним договор относительно Этрурии (Тосканы); а затем, тайно встретившись с Амалазунтой, он должен был со всей ловкостью договориться с ней обо всей Италии, как будет полезно для них обоих. Официально же он шел послом для переговоров о Лилибее».82 Пользуясь страхом и малодушием Теодата, он убедил его довериться Юстиниану и уступить ему всю Италию. С этим известием он возвратился в Константинополь, но был вторично отправлен в Равенну для приведения в исполнение обещаний Теодата.83 Но так как в это время византийский полководец Мунд был разбит в Далмации готами, то Теодат резко изменил направление своей политики по отношению к Византии и не выполнил своего обещания.84 Он нарушил права посольства, продержав Петра 3 года в заключении. В 538 г. Петр был освобожден Витигесом, и впоследствии награжден Юстинианом званием магистра оффициев.85 В 550 г. Петр Патрикий был возведен в звание патриция и отправлен в Персию для заключения перемирия с царем Хосровом, но эта миссия оказалась безуспешной.86 В 552 г. Петр был уполномочен вести переговоры с папой Вигилием, задержанным в Халкидоне по делу о трех главах. Вигилий, рассказывая об этих событиях, называет Петра экс-консулом, патрицием и магистром, также рефендарием и человеком знаменитым.87
Если сильного врага
нельзя было ни купить, ни победить обычными способами, Юстиниан прибегал к политическому или экономическому способам воздействия. Самым опасным соперником Византии продолжало оставаться персидское государство Сасанидов, особенно усилившееся при Хосрове I. Военные действия против Персии были неудачными. Тогда Юстиниан поднял против Хосрова всех его соседей. Против Ирана были брошены гунны, кочевники Сирийской пустыни, бедуины Неджда, арабы Йемена, Эфиопское царство Аксума. Юстиниан поддерживал царей Лазики, преграждавших Персии путь к Черному морю. Чтобы избежать посредничества Персии в торговле с Индией и Китаем, Юстиниан стремился направить эту торговлю по морским путям, через Красное море.
Через 10 лет, Петр опять был направлен в Персию для заключения мира, и на этот раз с большим успехом. «В конце 561 года на границе между Нисибином и Дарой съехались уполномоченные от обоих держав для выработки условий мирного договора. То были лучший дипломат Юстиниана магистр Петр».88 Он заключил необходимый мир с царем Хосровом на пятьдесят лет.
Вернувшись из Персии в Византию, он вскоре умер. «Петр после того удалился без успеха из пределов мидийских. Однако же он заключил договор с персами, вследствие которого война между обеими державами прекращена. Миды выступили из области колхийской и возвратились в свои земли. Петр же скоро по прибытии в Византию скончался».
89 Историк Менандр Протектор сообщает об официальных донесениях, сделанных Петром Патрикием о своей мисси в Персию.90
Византия со всех сторон была окружена беспокойными, постоянно
мигрирующими племенами варваров. Византийцы тщательно собирали и записывали сведения об этих племенах.
Они хотели иметь точную информацию об их нравах, военной силе, торговых связях, о междоусобиях, о влиятельных людях и возможности их подкупа.
На основании полученных сведений строилась византийская дипломатия, которая переросла в «науку об управлении варварами»91.
Главной задачей византийской дипломатии было заставить варваров служить империи, вместо того чтобы угрожать ей. Наиболее простым способом был наем их в качестве военной силы. Вождей варварских племен и правителей государств подкупали, заставляя вести войны в интересах Византии. «Притом отправлен был к аварам посланником Валентин, один из царских мечников.
Ему предписано было ввести то племя в союз с римлянами и заставить его действовать против римских врагов».92 Ежегодно Византия выплачивала пограничным племенам большие суммы. «Предводитель аваров, вместе с переводчиком Виталианом, отправил к царю Таргития с требованием от него уступки Сирмия и обычных денег, которые кутригуры и утигуры получали от царя Юстиниана».
93 За это они должны были защищать границы империи. Их вождям раздавали пышные византийские титулы, знаки отличия, золотые или серебряные диадемы, мантии, жезлы. «Вскоре посланы были в подарок аварам цепочки, украшенные золотом, и ложа, и шелковые одежды, и множество других вещей, которые могли бы смягчить души, исполненные надменности».
94 Варварам отводили земли, где они селились на положении вассальных союзников (федератов). Лангобарды получили земли в Норике и Паннонии, герулы — в Дакии, гунны — во Фракии, авары на Саве. 95 Так одни варвары служили оплотом Империи против других. Варварских вождей старались покрепче привязать к византийскому двору. За них выдавали девушек из знатных фамилий.
Их сыновей воспитывали при Константинопольском дворе в духе преданности интересам империи; одновременно они служили заложниками на случай измены отцов.96 В то же время в Константинополе внимательно следили за распрями, обычными в княжеских родах варваров.
Неудачным претендентам, изгнанным князьям давали приют и держали их про запас, на всякий случай, чтобы выставить своего кандидата на освободившийся престол или выдвинуть опасного соперника против зарвавшегося варварского правителя.
Однако применение этих методов давало временный эффект и ненадежный результат. Варвары, получавшие от Византии деньги, требовали все большие суммы и угрожали перейти в лагерь врагов империи. Важно было не давать им усиливаться, ослаблять их взаимными усобицами.
Старое римское правило «разделяй и властвуй» нашло широкое применение в византийской политике. Юстиниан возвел натравливание одних варваров на других в целую систему. На болгар он натравливал гуннов, на гуннов — аваров, на гепидов – лангобардов.
97 Чтобы захватить королевство вандалов, император привлек на свою сторону остготов, а остготов разгромил при содействии франков.98 Военное вмешательство во внутренние дела других государств было одним из средств политики Юстиниана.
В Африке и Италии Юстиниан использовал социальную борьбу в этих странах, в частности недовольство римских землевладельцев, вызванное захватом их земель варварами, и возмущение духовенства господством варваров-ариан.
Чтобы еще крепче держать
в руках своих вассалов, для внушения соответствующего представления о могуществе и престиже империи, в Константинополе устраивались пышные приемы. В течение всего царствования Юстиниана Константинополь постоянно посещали посольства иностранных государств.
Герулов, гуннов, гепидов, аваров, сарацинов, аксумитов, лазов, иверов осыпали знаками внимания, одаривали подарками и провожали с большой пышностью. Прокопий Кесарийский в «Тайной истории» с неодобрением высказывается по этому поводу. «Тот же (Юстиниан), не испытывая никаких колебаний, но даже преисполненный радости от такого дела, считал за великую удачу выплескивать богатство римлян, швыряя его морскому прибою или варварам, постоянно, день за днем отсылая каждого из них с раздутыми кошельками».99
Дипломатия служила развитию торговли, а расширение торговых связей в свою очередь использовалось Византией как одно из сильнейших орудий дипломатии. Торговые города, расположенные на окраинах империи, были форпостами ее политического влияния. Купцы, торговавшие с отдаленными народами, приносили в Византию сведения о них.
С византийскими товарами к варварам проникало и политическое влияние Византии. За купцами следовали миссионеры. Распространение христианства также было одним из важнейших дипломатических орудий византийских императоров на протяжении многих столетий.
Византийские миссионеры проникали в горы Кавказа, на равнины Причерноморья, в Эфиопию, в оазисы Сахары. Миссионеры были в то же время и дипломатами, трудившимися для укрепления византийского влияния.
В противоположность папскому Риму, который не допускал церковной службы на национальных языках, Византия облегчала своим миссионерам дело распространения христианства, разрешая службу на местных языках и переводя священное писание на языки народов, которые были готовы принять христианскую веру.
Евангелие было переведено на готский, гуннский, абиссинский, болгарский и другие языки.100 Эта гибкая политика приносила свои плоды. В обращенных странах утверждалось византийское влияние духовенство, зависимое от Византии, играло огромную роль в варварских государствах как единственный носитель грамотности.
Византийским послам предписывались определенные правила поведения. При дворах иностранных государств посол должен был проявлять приветливость, щедрость, хвалить все, что увидит при чужом дворе, но так, чтобы это не противоречило византийским порядкам. Он должен был объективно оценивать обстоятельства, не навязывая силой то, что можно было добиться другими средствами.
В целом дипломатическую
политику Юстиниана можно охарактеризовать как политику, которую, быть может с несколько большим искусством, Византийская империя практиковала в течение всех средних веков.
Благодаря профессионализму своих дипломатов, неутомимой деятельности миссионеров Византия просуществовала столько столетий и устояла против стольких завоевателей.
Благодаря этому, она распространила свою цивилизацию по всему Востоку и оставила в истории неизгладимый след.
В этой работе была сделана
попытка дать оценку внешнеполитической деятельности Юстиниана в целом, а также установить, идёт ли в данном случае речь о последовательной и планомерно осуществляемой политике с целью реанимировать Римскую империю, или же всего лишь о роковых случайностях и авантюризме императора и его военачальников, приведших к значительным изменениям на политической карте мира в VI веке.
Рассмотрев войну с персами в период правления Юстиниана в 527 – 531 гг. было сделано предположение, что маловероятно, что Юстиниан в то время планировал направить силы Империи на запад, где переворот в государстве вандалов, якобы, открывал широкие горизонты для восстановления власти римского императора в Африке, где православное население находилось под игом иноверных варваров. Можно предположить, что Юстиниана, скорее, больше беспокоили восточные и южные границы Империи, т.к. варварские королевства были, в большинстве своем лояльны к Римской империи и, хоть и номинально, но признавали константинопольского императора своим сюзереном и даже чеканили монеты с его изображением. Основная и постоянная угроза в то время исходила как раз от Персии на востоке, от воинственных арабских племен на юге и от варваров на дунайской границе. Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что такой желанный для Юстиниана мир с Персией изначально никоим образом не служил поводом для военной экспансии на запад, а давал лишь возможность византийскому государству собраться с силами для окончательного утверждения своего влияния на востоке и юге. Скорее всего, будучи дальновидным политиком, в то время Юстиниан понимал, что «вечный» мир далеко не вечен. Это стало очевидным в 540 г. вначале второй персидской войны, которая могла бы закончиться несколько по иному, не будь у Византийской империи такой неожиданной и затяжной военной кампании на западе, начавшейся через 2 года после заключения «вечного» мира на востоке.
Быстрое и почти беспрепятственное
завоевание Северной Африки византийскими
войсками под предводительством
Велизария рассматривалось современниками как большой успех.
Сторонники римских традиций и приверженцы ортодоксальной веры были удовлетворены поражением еретиков-вандалов, кроме того, как казалось, эта победа способствовала восстановлению Римской империи в ее прежнем величии. Походом в Африку началась завоевательная военная кампания императора Юстиниана на западе.
Некоторая доля удачи в реализации столь авантюрного предприятия, потребовавшего в целом немного средств и людских ресурсов, но принесшего казне большую добычу, активизировала императора к составлению новых завоевательных планов. На очереди стояла итальянская война, которая началась по окончании похода в Африку.
В новелле, изданной после покорения Африки, Юстиниан выказывает пожелание, чтобы Бог дал ему силы освободить и другую страну от господства ариан.
Таким образом, вследствие этих походов на отдаленный юго-запад Византийское государство значительно расширилась за счет новых завоеванных территорий. Кроме островов Сардинии, Корсики и Балеарских островов к Империи была присоединена часть Испании и Западной Африки.
Дипломатическую политику Юстиниана, в целом, можно охарактеризовать как политику, которую, быть может с несколько большим искусством, Византийская империя практиковала в течении всех средних веков. Благодаря профессионализму своих дипломатов, неутомимой деятельности миссионеров Византия просуществовала столько столетий и устояла против стольких завоевателей.
Благодаря этому, она распространила свою цивилизацию по всему Востоку и оставила в истории неизгладимый след. Ф.И. Успенский находит у Евсевия Памфила, главного идеолога Империи Константина следующую формулу для идеи универсальной империи: «Один Бог владычествует всеми, одна империя для обладания всеми народами.
В одно и то же время по небесному изволению появились два ростка, которые поднялись над землей и покрыли своей тенью весь мир – это Римская империя и христианская вера, предназначенные соединить в своих недрах весь род человеческий в вечном единении. Весь мир составит одну нацию, все люди соединятся в одну семью под общим скипетром».
101 Перед честолюбием Юстиниана открылась перспектива, о которой он не помышлял в начале завоеваний – объединить весь мир в единое христианское государство. С точки зрения императора, все правители в границах прежней Римской империи должны признавать в нем своего господина.
Как защитник христианской церкви и единственный блюститель истины, Юстиниан считал, что обладает исключительным правом везде распространять знание подлинной веры, а так как весь мир должен принадлежать царству Божьему, то по божественному праву вся земля должна быть подчинена императору.
Внешняя политика Юстиниана и ее последствия
Осуществление завоевательной программы Юстиниан начал с разгрома в 533—534 гг. Вандальского королевства в Северной Африке; в длительных войнах, проходивших с переменным успехом, в 535—555 гг.
, было ликвидировано Остготское королевство и завоеваны Италия, включая Сицилию, а в 554 г. — Юго-Восточная, прибрежная часть Испании. Казалось, Юстиниан достиг своей цели — Средиземное море снова стало «внутренним озером» империи.
Однако его завоевания были непрочными: осуществление грандиозных планов потребовало затраты колоссальных материальных средств и людских ресурсов.
Правление Юстиниана ознаменовано обострением социальной напряженности в обществе. В январе 532 г. в ответ на усиление налогового гнета, введение казенных монополий на торговлю продуктами и произвол царских фаворитов вспыхнуло восстание в Константинополе, названное по кличу повстанцев «Ника» (по греч.
— «Побеждай!»). Низы димов «голубых» и «зеленых» объединились. В ложу императора на ипподроме бросали камни. Весь город пришел в волнение. Начались пожары. Восставшие выдвинули своего кандидата на престол. Во дворце кончились вода и продовольствие. Растерявшийся император хотел бежать морем через Босфор.
Положение спасла сохранившая самообладание императрица, ей даже приписывают фразу: «Порфира — лучший саван!». Вызванная во дворец наемная гвардия была тайно проведена на ипподром и обрушилась на мятежников. До 30 тысяч безоружных константинопольцев были убиты на месте.
Обескровленные димы надолго ушли с политической арены.
Почти одновременно волнения охватили Палестину, а в 536 г. — Северную Африку, где победившие вандалов воины не получили обещанных им земельных участков. Восставшие во главе с воином Стотзой, к которому присоединились рабы и колоны, сопротивлялись имперским войскам почти 11 лет.
Непрочными были завоевания Юстиниана и в Италии (535—536 гг.). Политика реставрации имперских порядков, возвращение земель, колонов и рабов прежним господам (и их потомкам), своеволие чиновников, целый поток которых хлынул из столицы в отвоеванные земли, — все это вызвало восстание жителей Италии.
Власть остготов была вновь восстановлена на части территории. Их король Тотила (541—552), давший свободу примкнувшим к нему рабам и колонам и наделявший землей, отобранной у крупных собственников, крестьян из остготов и римлян, получил поддержку широких слоев населения. К 546 г.
у империи в Италии, на Сицилии, Сардинии и Корсике почти не осталось владений. Только в 552-555 гг., собрав все силы, Юстиниан добился победы.
Неспокойно было и на Балканах. Здесь действовали отряды «ска-маров» (разбойников), в которые вливались и разорившиеся поселяне. Рядом неудач была отмечена политика Юстиниана на Востоке. Бросив все силы на Запад, император ослабил оборону восточных границ. В 540 г.
персы вторглись в Месопотамию и Сирию, взяли и разрушили жемчужину восточных городов империи — Антиохию. Трижды Юстиниан заключал с персами перемирие, выплачивая им все возраставшие контрибуции и дани. Упорно посягал Иран и на юго-восточное побережье Черного моря (Лазику).
Войны за нее шли с переменным успехом с 549 до 556 г. Только в 562 г. борьба с Ираном завершилась мирным договором. Империя удержала Лазику, но отказалась от претензий на Сванетию и иные грузинские земли.
Империи удалось не допустить Иран ни к черноморскому, ни к средиземноморскому побережьям.
Вторжения славян
Наиболее крупными были неудачи внешней политики Юстиниана на севере Балканского полуострова. Тройная линия крепостей, возведенная им здесь по правому берегу Дуная, не смогла сдержать напор варваров. Почти каждый год в своих набегах они разоряли северобалканские земли.
В правление Юстиниана это были чаще всего тюрки-протоболгары, славяне и авары. Вторжения протоболгар участились с начала 40-х годов, а нападения аваров — с начала 60-х. Явившись из Приазовья в 558 г. к устью Дуная, они получили от Юстиниана разрешение поселиться в Паннонии в качестве союзников империи.
Авары подчинили себе протоболгар, обосновавшихся здесь еще в середине V в., и распространили отчасти непосредственное господство, отчасти влияние на славянские племенные союзы, расселившиеся в первой половине VI в., еще до прихода аваров, на примыкавших к левому берегу Дуная территориях.
К северу от Среднего Дуная, в бассейне Тиссы, авары основали мощное союзно-племенное объединение — Аварский каганат, ставший вплоть до второй четверти VII в. главным врагом империи на Балканах.
Пренебрегая договором с империей, авары вместе с протоболгарами и славянами стали систематически разорять ее владения, достигая в набегах окрестностей Константинополя.
Наиболее серьезные последствия для империи имели, однако, вторжения славян. Их нападения начались еще при Юстине и стали почти ежегодными с начала правления Юстиниана I.
Организованные в племенные объединения, славяне заселили сначала левобережье Нижнего и Среднего Дуная, куда возвращались с добычей и пленными после набегов на земли империи. Но с середины VI в.
, в отличие от других варваров, которые возвращались из походов в места постоянных поселений или уходили дальше на Запад, славяне стали все чаще задерживаться в пределах империи на зиму, а затем и расселяться на захваченных ими землях.
Основу общественного строя славян составляла земледельческая община с пережитками кровнородственных (большесемейных) отношений. Члены общины владели земельными наделами, права собственности на которые, как и на всю сельскую округу и угодья, принадлежали еще общине в целом.
Первоначально захваченных в походах пленных (чаще всего византийцев) славяне либо продавали и отдавали за выкуп, либо оставляли, попрошествии нескольких лет, жить среди них на общих правах.
Со временем, однако, особенно после поселения в империи, славянская племенная знать стала довольно широко использовать труд рабов в своих хозяйствах. Во главе племенных и союзно-племенных объединений стояли князья, но их власть ограничивалась племенными собраниями.
Прокопий Кесарийский писал в середине VI в., что славяне все дела решают сообща, так как живут в «демократии».
Расселение славян на землях империи, помешать которому она оказалась не в состоянии, началось во второй половине VI в. Особенно массовый характер оно приняло в последние десятилетия VI и первые десятилетия VII в. В 602 г.
посланные против славян левобережья нижнего Дуная войска отказались выполнить приказ зимовать в земле врага, подняли мятеж и ушли с дунайской границы, открыв ее для беспрепятственных переселений славян на территорию империи.
Чаще всего они захватывали лучшие земли, потеснив местных жителей и обложив их данью.
Славянская колонизация охватила огромные территории Балкан: они расселялись и к северу от Балканского хребта, и во Фракии, Македонии, Эпире, Греции, на Пелопоннесе и ряде островов Эгейского моря. К середине VII в. они стали вторым по численности (после греков) этносом на Балканах.
По большей части славяне сохраняли на новых местах свои прежние племенные названия. Известны наименования около 30 славянских племенных объединений. Византийцы обозначали их термином «славинии».
В течение двух-трех веков славинии жили совершенно независимо, постепенно прекращая набеги на соседние земли и устанавливая мирные (в том числе торговые) отношения с местным населением. Иногда они объединялись для нападения или обороны в более крупные союзы.
С 580-х до 670-х годов славяне не менее четырех раз осаждали Фессалонику, второй по значению и величине город империи, с целью сделать его своим политическим центром.
Тенденции к формированию собственной государственности не нашли, однако, у славян развития на византийской земле.
Уровень их общественного строя еще не был достаточен для образования прочного союза и организации власти племенной верхушки над собственным и завоеванным населением. Славинии так и не стали государствами до их интеграции в состав империи.
Процесс этот занял несколько столетий. Причем наибольший эффект давали не военные походы против славян, а соглашения с ними и обращение их в христианство.
Первоначально славяне опустошили значительные пространства империи, в том числе немало мелких и средних городов (в которых они не селились), множество византийцев было убито, Уведено в плен, обращено в рабство. Затем, прочно обосновавшись на издревле освоенных землях, славяне сами же возвращали эти земли к жизни.
С развитием и усилением связей с местным населением славянская земледельческая община превращалась в соседскую, все реже становились переделы пахотной земли между семьями, упрочивались права полной собственности общинников на свои участки.
В свою очередь, более консервативная славянская община оказала влияние на местную, ослабленную налогами, и содействовала укреплению крестьянского землевладения, ставшего в VII—IX вв. основой возрождения империи.
Внешняя политика Юстиниана
Как известно, власть византийских императоров (василевсов) не была юридически наследственной. Фактически, на престоле мог оказаться любой. Наиболее прославленные византийские императоры не отличались высоким происхождением.
Юстиниан I Великий (482 или 483=565), один из величайших византийских императоров, кодификатор римского права и строитель собора св. Софии. Юстиниан был, вероятно, иллирийцем, родился в Таурезии (провинция Дардания, близ совр.
Скопье) в крестьянской семье, но воспитывался в Константинополе.
При рождении получил имя Петр Савватий, к чему впоследствии добавились Флавий (как знак принадлежности к императорскму семейству) и Юстиниан (в честь дяди по матери императора Юстина I, правил в 518=527).
Юстиниан, любимец не имевшего собственных детей дяди-императора, сделался при нем чрезвычайно влиятельной фигурой и, постепенно восходя по служебной лестнице, поднялся до поста командующего столичным военным гарнизоном (magister equitum et peditum praesentalis). Юстин усыновил его и сделал своим соправителем в последние несколько месяцев царствования, так что когда 1 августа 527 Юстин умер. Юстиниан взошел на трон.
Юстиниан «считал своей первоочередной задачей усиление военной и политической мощи Византии. Он поставил перед собой честолюбивую цель — восстановить Римскую империю в ее прежних границах — и, надо сказать, довольно успешно эту цель осуществил.
В то время основная угроза империи исходила с востока, от могущественного сасанидского Ирана, войны с которым составляли стержень восточной политики Юстиниана вплоть до заключения «вечного мира» в 532 г.
По мирному договору границы между Византией и Ираном оставались прежними, но империя добилась включения в сферу своего влияния Лазики, Армении, Крыма и Аравии, где утверждалось господство христианства. В ходе завоевательных походов Юстиниан — покорил вандалов в Северной Африке (533−534).
Целью данной работы является рассмотрение и изучение внешней политики Юстиниана [referat.bookap.info, 12].
Рассмотрим царствование Юстиниана в нескольких аспектах: 1) войны; 2) внутренние дела и частная жизнь; 3) религиозная политика; 4) кодификация права.
Для Византийской империи VI в. стал одним из наиболее ярких периодов ее истории. Расцвет ее величия был связан в первую очередь с именем императора Юстиниана.
В его время было кодифицировано римское законодательство и составлен Свод гражданского права (Corpus Juris Civilis), построен храм Софии Константинопольской, а границы государства на какое-то время стали напоминать границы былой Римской империи.
Официальным языком государства и родным языком Юстиниана была все еще латынь, страна возрождалась в качестве христианской Римской империи, но все же именно в этот период стало ясно, что это уже не Рим, а именно Византия.
Глава 1. Византийское государство в эпоху Юстиниана
1.1. Восшествие на престол Императора Юстиниана
В 518 г. умер император Анастасий. Ему наследовал Юстин I, чье правление не было особенно выдающимся, но возможно, он просто оказался в тени своего великого племянника Юстиниана.
Биография Юстина один из лучших примеров византийской «вертикальной мобильности», поскольку будущий император происходил из простых иллирийских крестьян.
С его полуварварским балканским происхождением связана легенда о славянских корнях Юстина и Юстиниана, хотя в действительности они скорее могли быть представителями латинизированных албанских племен.
Ученостью император похвалиться не мог, и даже поставить собственную подпись было, по свидетельству современников, выше его сил. Императорского трона Юстин достиг благодаря профессиональной военной карьере. Таким образом, византийская концепция «вертикальной мобильности» была реализацией для того времени слов Александра Македонского о том, что власть в государстве должна доставаться сильнейшему.
Лекция: Образ Юстиниана как политика и дипломата: цели и методы проведения внешней политики
Прежде всего, хотелось бы в целом рассмотреть образ императора Юстиниана I как политика и дипломата в представлении Прокопия Кесарийского на страницах его «Тайной истории», а также цели и методы решения поставленных задач византийским василевсом в интерпретации автора этого сочинения
Как уже говорилось, основой концепции Прокопия является «дьявольский» характер личности и правления Юстиниана. По словам историка, Юстиниан – не человек, но демон, посланный Богом за грехи людей.
[98] Основное призвание этого порождения дьявола, по Прокопию, — мучить и убивать своих подданных и человеческих существ вообще, от него, по образному выражению историка, «никому из римлян не удалось ускользнуть, ибо подобно любому ниспосланному небом несчастью, обрушившемуся на весь человеческий род, он никого не оставил в неприкосновенности».
[99] Более того, Прокопий утверждает, что Юстиниан умертвил больше людей, чем было лишено жизни когда-либо до него.
[100] Чтобы подчеркнуть отвратительную сущность владыки Восточной Римской империи, Прокопий Кесарийский уподобляет его внешность облику императора Домициана, «злонравием которого римляне оказались сыты до такой степени, что, даже разорвав его на куски, не утолили своего гнева против него».
[101] Касательно же нрава императора историк пишет, что он соединял в себе как хитрость и коварство, так и простодушие и доверчивость, что нередко приводило к тому, что Юстиниан оказывался жертвой обмана.
[102] Основными страстями этого двуличного и лукавого правителя являлись вожделение к деньгам и умерщвлению людей, ради удовлетворения которых Юстиниан шёл на любые преступления.[103] Веским свидетельством порочности нрава василевса, по мнению историка, также служит факт его женитьбы на Феодоре, предстающей под его пером болезненно развращённой куртизанкой, основным помыслом которой на протяжении многих лет её жизни было удовлетворение самой низменной и, как подчёркивает Прокопий, омерзительной похоти.[104] Государственная же деятельность Юстиниана, по мнению историка, сопровождалась разрушением всех устоев[105], что в конечном счёте привело к «разрушению Римской державы».[106]
Таким образом, в самом общем виде Прокопий Кесарийский изображает политическую деятельность Юстиниана как Божье наказание. Его самого – как фигуру сродни Антихристу. В этой провиденциалистской схеме рассматриваются также конкретные проявления политического курса василевса: грабёж подданных, убийства неугодных – всё это является результатом порочного, демонического нрава императора.
Теперь мы можем приступить непосредственно к тому. Что данный источник сообщает по нашей теме – к анализу изображения Прокопием целей и методой проведения внешней политики Восточной Римской империи Юстинианом.
Сразу следует отметить, что описание данных проблем в «Тайной истории» даётся уже через указанную призму демонстрации Юстиниана и его супруги Феодоры как концентрации вселенского зла, основная цель которых – грабить и мучить своих подданных и другие народы.
Так, в ходе общей характеристики личности и политического стиля Юстиниана Прокопий Кесарийский с сарказмом добавляет следующий штрих к уже и без того неприглядному облику ненавистного василевса: «Помимо того, что ему оказалось пустячным делом разрушить Римскую державу, он сумел овладеть ещё Ливией и Италией, и всё ради того, чтобы наряду с теми, кто уже раньше оказался в его власти, погубить обитателей и этих мест».[107] Из этой фразы нетрудно понять мотивацию императора, как её интерпретирует историк: Юстиниан пожелал захватить Италию и Ливию для того, чтобы утолить свою жажду убийств и насилий, к чему была склонна его порочная натура. Как видим, никаких высоких идеалов возрождения прежнего величия Римской империи Прокопий Юстиниану приписывать не склонен: демон, кара Божья, лишь хочет совершить своё предназначение – мучить род людской. Обратимся теперь к другим сообщениям о мотивах внешнеполитической активности Юстиниана, которые предоставляет в наше распоряжение «Тайная история». Касаясь взаимоотношений Юстиниана с варварами (т.е. неримлянами) в начале царствования василевса и в конце правления его дяди, Юстина. Впавшего в старческое слабоумие и передавшегно фактическую власть своему племяннику[108], Прокопий утверждает, что «римляне жили в мире со всеми народами», однако новый автократор. «снедаемый жаждой убийства и не зная, куда себя от этого деть», «начал стравливать всех варваров между собой».[109] Мы вновь не видим здесь никакой рациональной мотивации для совершения каких-либо шагов на международной арене; напротив, как представляется, Юстиниан, снедаемый желанием уничтожить всех людей и не задумывающийся об интересах своей державы, начинает сеять зло между соседними народами. Однако не только о причинах столкновения императором различных варварских племён сообщает Прокопий Кесарийский. Юстиниан не только губит соседей интригами, нет, он ещё призывает, начиная с конца царствования своего дяди, вождей варварских племён и «с неуместной щежростью предоставляет им огромные деньги».[110] О сути этого политического приёма Юстиниана мы ещё будем говорить подробнее, а сейчас обратимся к мотивации данных действий, изображённой в «Тайной истории». Прокопий по этому поводу высказывается следующим образом: атократор призывал варварских вождей «без какой-либо нужды».[111] Следовательно, никакими практическими требованиями для империи приглашение вождей различных варварских племён (в первую очередь гуннских и славянских) не обусловлено. Думается, данный пассаж был включён автором в текст повествования для подтверждения своей основной концепции: Юстиниан – концентрация зла, его политика направлена на уничтожение и разорение всего населения Ойкумены, следовательно, приглашение и одарение варваров никакой пользы иметь не могут, это очередное проявление порочной натуры тирана. Что касается взаимоотношений Восточной Римской империи с державой Сасанидов и незатухающих конфликтов между ними, Прокопий Ксарийский представляет главным виновником данного противостояния именно Юстиниана. По словам историка, коварство автократора, который «изо всех сил старался привлечь на свою сторону Аламундара и гуннов, находящихся в союзе с персами» и послужило причиной новой серии кровавых столкновений, хотя сам Юстиниан незадолго до этого «отдал Хосрову мир за множество кентинариев».[112] Таким образом, и здесь Юстиниан предстаёт воплощением коварства и полного несоблюдения интересов «Римской державы», что укладывается в версию Прокопия о «Божьем наказании», «человеке-демоне», «вселенском зле». Также здесь можно провести параллель с тезисом Прокопия о «хитром глупце»: Юстиниан, желая стравить своих врагов или переманить одного на свою сторону, самым глупым образом разрушает то, что было им достигнуто раньше с помощью больших усилий.
Таким образом, рассмотрев три сообщения Прокопия Кесарийского о целях внешней политики Юстиниана на разных направлениях, мы можем прийти к выводу, что в изображении историка причины дипломатической активности империи в царствование данного императора отвечают целям Юстиниана как носителя зла и порока: погубить всех людей, разбрасываться выжатыми из народа деньгами без всякой причины, с помощью коварства стравить соперников или перетянуть некоторых из них на свою сторону.
Теперь следует перейти к рассмотрению методов реализации Юстинианом его внешней политики, получивших отражение на страницах «Тайной истории».
Сразу следует напомнить, что систематической картины изображения принципов и приёмов внешнеполитического механизма при Юстиниане в источнике мы не находим.
Однако рассказ об отдельных дипломатических акциях этого правителя может дать довольно рельефное представление об интерпретации внешнеполитического курса Восточной Римской империи того времени Прокопием Кесарийским.
Начнём с того, в каком свете представляет Прокопий политику Юстиниана по отношению к варварским племенам, которые он именует гуннами, склавинами и антами.
Мы уже выяснили, что историк считает взаимоотношения, установившееся между империей и ими, противоестественными и не имеющими никаких объективных предпосылок; единственное им объяснение – прихоть порочной натуры автократора. Мнение же о действиях Юстиниана на этом фронте его дипломатической деятельности у Прокопия также весьма нелестное.
Как уже упоминалось, историк сообщает, что василевс начал с того, что пригласил «гуннских вождей» и «с неуместной щедростью» стал раздавать «огромные деньги»,[113] выжатые им из населения своей империи.[114] Подобные роскошные дары Юстиниан объявил «неким залогом дружбы».
[115] Однако подобная практика, получившая развитие ещё в царствование императора Юстина, ни к каким положительным последствиям для империи не привела: приглашённые вожди деньги брали, однако затем посылали своих соплеменников («других вождей», по определению Прокопия Кесарийского), которые, в свою очередь, совершали набеги на земли Восточной Римской империи, с тем чтобы «и они могли купить мир у того, кто желал продавать его так бессмысленно».[116] В результате всё новые и новые племена вторгались в пределы «Римской державы», желая получить награду от Юстиниана.[117] Таким образом, благодаря многочисленности варваров война, «начавшаяся из-за неразумной щедрости, кружила волнами и никогда не могла достигнуть конца, но верно начиналась сызнова».[118] Одним Балканским полуостровом варварские вторжения не ограничились. Прокопий едко пишет о том, что Юстиниан «всех же варваров…, не упуская ни одного удобного случая, одаривал огромными деньгами – и тех, что с востока, и тех, что с запада, и тех, что с севера, и тех, что с юга, — вплоть до тех, которые живут в Британии, и племён всей Ойкумены, о которых прежде мы и не слышали и увидели раньше, чем узнали их имя».[119] В результате подобной бездумной, с точки зрения историка, раздачи денег варварам, которых Юстиниан «отсылал…с раздутыми кошельками»,[120] империя подвергалась набегам со стороны мидийцев, сарацин, склавинов, антов и других варваров, то есть по всей протяжённости своих границ.[121] Прокопий с горечью констатирует, что итогом подобных походов стало то, что новоявленные союзники автократора присвоили себе значительную часть богатств имперской казны, заботливо собранных императором Анастасием, который под пером историка из Кесарии предстаёт образцом предусмотрительного и умеренного правителя,[122] и подданных империи,[123] причём сделали это несколькими путями: либо прямым грабежом, либо выкупом за пленных, либо получив деньги от Юстиниана, либо купив мир за деньги.[124] Однако василевса подобный поворот его политического курса ничуть не смутил: напротив, Юстиниан прямо запретил стратигам Фракии и Иллирии, решившимся напасть на варваров (очевидно, славян или кочевников-тюрок), чтобы при отступлении отбить у них пленных и добычу, совершать нечто подобное, аргументируя своё решение тем, что отныне эти варвары – союзники, необходимые в войне «против готов и иных врагов».[125] Попытки же крестьян отбить попавших в плен родственников и возвратить отнятое имущество, по данным Прокопия, сурово пресекались Юстинианом: специальные чиновники из Константинополя («Византия») подвергали «мятежных крестьян» пыткам и накладывали на них денежные штрафы.[126] Пострадали, по сообщению историка, и константинопольские домовладельцы, поскольку Юстиниан обязал их принимать на постой варваров «числом до семидесяти тысяч», что лишало хозяев выгоды и приносило «иные неудобства».[127]
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в «Тайной истории» Прокопий Кесарийский рисует следующую картину взаимоотношений Юстиниана и соседних к империи варварских племён: василевс, нуждающийся якобы в союзе этих племён, а на самом деле обуреваемый жаждой всеобщего грабежа и убийства, наделяет варваров деньгами за обещание мифического союза, что порождает «цепную реакцию»: привлечённые перспективой стать объектами щедрости жестокого и неразумного императора, а также пограбить «римлян» и в обмен за прекращение военных действий, потоком устремляются в пределы «Римской державы» и бесстыдно наживаются как из казны, так и путём грабежа частных лиц. Не замечающий убогого воплощения своей политики, Юстиниан всячески препятствует попыткам местной власти и населения положить конец бесчинствам «союзников» императора. Следовательно, мы можем заключить, что данный принцип внешней политики автократора – заключение союза с «варварскими племенами» в обмен за плату – представляется Прокопию Кесарийскому противоестественным, абсолютно бесперспективным в полной мере соответствующим разрушительному духу правления Юстиниана, призванием которого историк считает разрушение нормального общественного порядка и приведение государственных дел в состояние хаоса.[128]
На описании варварских бесчинств, возникших благодаря попустительству Юстиниана, Прокопий Кесарийский не останавливается. В демонстрации подлого и аморального нрава властелина ромеев он идёт дальше, воссоздавая перед читателями самые грязные картины политиканства василевса, наносящие ущерб достойным лицам и «Римской державе» в целом.
Так, Иоанна, сына Василия, одного из «виднейших жителей Эдессы», Велисарий, командующий армией империи на Востоке, силой отдал в заложники персам.
[129] Между тем сасанидский шах Хосров не желал его отпускать, поскольку, по его мнению, Юстиниан нарушил условия, на которых Иоанн был отдан в плен персам, а именно: владыка Ирана полагал, что за Иоанна ромеи должны внести выкуп как за военнопленного.
[130] Однако от Юстиниана никаких средств, по-видимому, не поступало; дело дошло до того, что бабка Иоанна из своих средств выложила две тысячи либр серебра за возвращение внука.
[131] Но несмотря на отчётливую перспективу ухудшения отношений с восточным соседом и ни во что не ставя жизнь своего подданного, василевс не допустил заключения сделки под предлогом того, чтобы «богатство римлян не увозилось к варварам».
[132] Конец этого злоключительного эпизода стандартен для повествования «Тайной истории»: Иоанн умирает в плену, а всё его имущество по подложному завещаню наследует автократор.[133] Таким образом, можно заключить из данного эпизода, что в представлении Прокопия Кесарийского характерной чертой Юстиниана-дипломата является презрение к заключённым обязательствам, конкретным людям, престижу своей державы, если они мешают удовлетворению сильнейшей его страсти – к деньгам. Более того, Юстиниан предстаёт и беспринципным демагогом: он готов заявить в своих личных целях, что раздавать золото варварам – пагубно для империи, в то время как сам, в свою очередь, возвёл, по Прокопию, эти раздачи в ранг своих основных действий на международном поприще.
Черты дипломатического стиля Юстиниана, каким его рисует Прокопий Кесарийский, можно обнаружить и в процитированном выше пассаже о нарушении мира с персами.
Так, Юстиниан за большие деньги покупает мир с шахом Хосровом, но первый же его и нарушает, так как хочет перетянуть на свою сторону союзников державы Сасанидов – Аламундара («царя сарацин»[134] и гуннов.
[135] Следовательно, перед нами ещё одна особенность внешнеполитического курса василеса: привлекать к себе сторонников могущественного противника, дабы ослабить последнего.
Под пером Прокопия эта ловкая, на первый взгляд, политика предстаёт верхом недальновидности: мало того, что Юстинианова игра была раскрыта Хосровом, так и мир, с трудом заключённый и выгодный василевсу ромеев, оказался нарушен. Следовательно, и при претворении в жизнь принципа «divide et impera» в отношении своих врагов Юстиниан, по Прокопию Кесарийскому, оказывается во власти своей недальновидности и выступает, согласно уже приводимому выше определению историка, в качестве «хитрого глупца».
Прокопий, в рассказе о последней несчастливой кампании в Италии, проведённой его покровителем Велисарием, сообщает довольно интересную деталь.
Полководец, обращаясь к Юстиниану перед оправлением на театр военных действий, обещает, что «никогда не потребует денег для ведения этой войны», а всё, необходимое для ратного дела «оплатит из собственных средств».[136] Судя по тому, что, как сообщает Прокопий, данное предложение было принято, Юстиниан как минимум не возражал против подобного исхода дел.
В рассказе о самом ходе кампании историк отмечает, что Велисарий потому усиленно грабил местное население, что «ничего не получал от василевса», даже в критические для ромейского оружия моменты.[137] Беззастенчивое обогащение же местного населения в конечном итоге привело к краху римских позиций в Италии.
[138] Таким образом, на основании данного сообщения Прокопия можно сделать вывод, что Юстиниан также порой отличался скаредностью в финансировании армии и использовал предлоги (в виде обещаний военачальников ничего не требовать), чтобы от этого уклониться.
Теперь следует подвести итоги нашему изучению основных методов проведения внешней политики Юстинианом по данным «Тайной истории» Прокопия Кесарийского. На основе источника мы пришли к выводу, что образ и правление Юстиниана в целом рассматриваются историком с точки зрения концентрации вселенского зла в фигуре императора ромеев, его демонической природы и миссии.
Отвечают этой концепции и основные дипломатические методы императора ромеев.
Владыка «Римской державы» склонен заключать неудачные союзы с варварами за плату, что влечёт за собой их грабительские походы на территорию империи; не считается ни с престижем державы, ни с интересами достойных людей; готов своей коварной политикой способствовать разрыву самим же заключённого мира, как то было продемонстрировано на примере с шахом сасанидского Ирана Хосровом; может с радостью не тратиться на ведение важной кампании (как в Италии). Таким образом, природа внешнеполитического курса Юстиниана в интерпретации Прокопия Кесарийского выступает довольно отчётливо: это авантюризм, коварство и полная безответственность, порождаемые страсть.ю василевса к убийству и деньгам.
Источник