Проблемы сохранения чистоты русского языка
Выступление на школьном педсовете в ноябре 2010 года.
Защитить, сберечь наше величайшее достояние, наше великое русское Слово. Именно к этому призывают нас строки Нобелевского лауреата — Ивана Бунина [1]:
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный – речь.
Мы знаем, что большая часть лексикона современного русского языка своими корнями далеко не русская и даже не славянская. Самый яркий пример это, конечно, слова, начинающиеся на букву А, здесь почти все слова заимствованы.
Это касается не только специфических терминов, но и многих обиходных предметов. Например, слово «огурец» греческого происхождения, «помидор» — испанского, «стул, стол, шкаф» — немецкого, «сарай, барабан» — турецкого. И что, мы с этим должны бороться? Заимствование слов было всегда и во все времена и ничего ужасного я в этом не вижу. Все заимствованные неологизмы когда-то были жаргонными словами, с которыми предлагали бороться, а сейчас это полноправные представители нашего лексикона, например компьютерные слова: сайт, чат, геймер, хакер и др.
Например, мы уже привыкли говорить «не счётная машина», а «калькулятор». Да, и «машина» тоже нерусское слово. Или я ошибаюсь?
Но…! Почему же всё-таки но?
Засорение русского языка американскими фразами, жаргонами. Кому это выгодно? Засилие чужой культуры и (не самой лучшей ее стороны) подражание западу. Что движет людьми? Мода на новые иностранные слова, боязнь казаться «несовременными» или «нецивилизованными»? Что же будет со следующими поколениями? А как же наследие? Ведь дошли до того, что 20 ноября 2010 исполнилось 100 лет со дня смерти великого русского писателя и человека Льва Николаевича Толстого, а мы ничего не видели на экранах ТВ и не слышали по радио. Ничего не было проведено и, видимо, не планировалось на государственном уровне. Это можно понимать только так, что властям, радио и ТВ до нашего национального гения дела нет. Запретить нецензурные, не литературные слова с телевизора, с модных каналов для молодежи? Это само собой следует делать, но не менее важно не забывать всё то хорошее, что есть у нас.
Я не говорю, что не нужно заимствовать слова из иностранных языков. Но нужно знать меру. Взять хотя бы слово killer. Есть абсолютно точный русские эквивалент, зачем же это слово употреблять, как будто, говоря killer вместо убийца, мы смягчаем его значение. Отсюда пропадает смысл. Я считаю, такие замены не нужны и даже опасны. Кроме того слова- паразиты типа Wow! Oops! OK! Yes! и т.д. Тоже все мусор просто.
Всё ведь бывает по-разному. Хочу шагнуть в прошлое. Итак, 1989, только начал работать Съезд Народных Депутатов СССР, ректор моего института Ю.А.Рыжов стал депутатом и даёт в своём кабинете интервью и несколько раз повторяет слово менталитет, от которого меня передёргивает. И только сейчас, работая над этим выступлением, я задумался и, кажется, понял, почему Юрий Алексеевич, академик, интеллигентный человек, использовал его. Всех «достал» М.С.Горбачёв с постоянно повторяемым «новым мЫшлением» (теперь-то я знаю, что, хоть и звучит это дико, но правильно – очень редко используемое произношение). Как же это всем не нравилось! К тому же Перестройка уже сошла на нет, М.С. Горбачёв и всё им сказанное, мягко говоря, не вызывали доверия. Вот наш ректор впервые в СССР и попытался сказать, используя английское слово вместо русского «мышления».
А потом пошло-поехало: творческий – плохо, заменим на креативный; убийца – несовременно, киллер – самое то; какая там безопасность, вы что, только секъюрити!
Можно понять использование слова продюсер в творческой области: в русском языке, как и в советской культуре такого понятия не было, обходились без человека, который решал вопросы отыскания денег для производства спектаклей и фильмов, а при новом строе понадобился.
Ничего нельзя возразить и по поводу компьютерных терминов. Как же иначе? Не мы придумали танец, чтобы музыку к нему заказывать. Так что давайте не будем пытаться компьютер называть вычислителем, монитор например смотрельщиком, а клавиатуру буквонабиралкой. Это просто смешно! Так же смешно как и французское упорство в борьбе за сохранение чистоты языка и компьютерные термины переводить на родной язык, перегружая их лишними словами. А чего стоит хорватское название футбола – ногомёт.
Но менеджер! Значит управляющий, или управленец, нам уже не подходят? И управляют в результате в этом государстве менеджеры. Oops! Sorry! Я это специально. Менеджеры не управляют, а менеджерят (а почему нет, ведь придумали мы слово мониторить): в армии менеджер от мебели, в здравоохранении менеджер от бухгалтерии.
Сейчас услышите что-то, что заставляет смеяться сквозь слёзы. Всюду вещают (иначе сказать не могу) толерантность-толерантность, дня не проходит, чтобы хоть раз по радио или на ТВ не услышать. А результат?
Итак, на уроках в обоих 10-х классах встречаем в учебнике tolerate. Спрашивают ВСЕ: «Что это?» Ну я, дурак наивный, говорю: «Однокоренное слово с общеизвестным». Следует вопрос: «Каким?» Нервно усмехаюсь и отвечаю: «Толерантность». И тут прямо удар в лоб: «А что это?» (НИКТО НЕ ЗНАЛ. )
И как вы их хотите учить толерантности.
А вот нецензурные выражения англо-американские знают хорошо. И ясно откуда: в фильмах идёт закадровый перевод типа «Чёрт! А чтоб тебя! Будь ты проклят!», а слышатся отнюдь не эти, в определённой степени, приличные выражения. Они, эти английские выражения, короткие, легко запоминаются. Блеснуть-то хочется. Вот, так сказать, и блестят [2].
Согласитесь, чтобы учить чему-то, сначала надо, чтобы слова необходимые знали.
Слово ТЕРПИМОСТЬ забыли, захотелось наукообразия. Вот и получили.
А классные часы, посвящённые толерантности разве не проходят, а они не понимают этого слова и, как результат, не слушают.
А как вам то, что не все 9-иклассники знали слово «вкрадчивый», а уже у известных вам 10-иклассников слово «ощетиниться» вызвало удивление, а когда я сказал: «Однокоренное слово «щетина», – то услышал вопрос: «Это что, когда мужчина долго не бреется?» Смешно! Но какова логика! (Иллюстрации)
Все языки в чём-то сходны, но в них и различия.
Например. Все знают, по крайней мере надеюсь, все знают выражение «Бабушке своей рассказывай!» Это по поводу небылиц.
А в английском языке это звучит посолидней «Tell that to the Marines!» («Расскажи это морпеху!»).
И сразу возникает образ американского морпеха-мордоворота, который до того туп, что поверит любой ахинее. Только вот кто ответит за последствия, когда до этого мордоворота дойдёт почему все покатываются и над кем они покатываются?
Два разных языка – и часто вроде бы одно и тоже пусть и другими словами, но всё-таки не то, и не просто не то, а очень даже по-другому.
Или например, «роза» в английском языке «rose ». Если в обоих языках нет различия в таком термине как «розовое масло», то при описании цвета это даже не различие: ассоциации разные, итак, «розовый» в русском языке, а в английском «pink», т.е. «гвоздичный». Годы СССР не прошли бесследно для нашей культуры, гвоздика ассоциируется с красным цветом, эти гвоздики на картинах, в стихах и песнях. Может ли произойти замена слово розовый на «pink»? А почему нет. Это уже происходило ещё несколько нет назад, когда у подростков пользовалась бешенным успехом поп-певица Pink. Слава богу, популярность её в России сошла на нет, и «pink» опять превратился в розовый. Кто может поручиться, что не появится что-нибудь ещё, и вместо «розовый» молодёжь опять не начнёт говорить «пинк», а потом и «пинковый». Разве не дико? А так уж дико ли? Ведь уже не дико слышать крылатую фразу «Не тормози – сникерсни!»(Иллюстрация)
И здесь как нельзя кстати привести стихотворение, которое я нашёл в Интернете (автор не приводится, к сожалению) [3]:
Все знают, глупость бесконечна.
Как мед незаменим для мух,
Так, иностранное словечко
Порой весьма ласкает слух.
Женой быть Кузнецова Вани?!
Ты что, парниша! Не шути!
Ведь лучше сесть в чужие сани:
Куда солиднее John Smith!
Слова «не наши» интересней.
Без них родной язык убог.
Не так вкусна сосиска в тесте,
Как обожаемый хот-дог!
Я с детства вздрагиваю, когда я встречаю или слышу украинские слова
колёровый (цветной), палац (дворец), готэль (гостиница) – здесь понятно влияние польского, как-никак Речь Посполитая долго там правила. А вам понравится, если и у нас так будет.
Несколько лет назад, когда у России были напряжённые отношения с Украиной, один из наших парламентариев высокомерно сказал: «Какой ещё украинский язык? Это же СУРЖИК русского!»
А не получится ли лет через триста, что какой-нибудь француз, гордый чистотой своего родного языка, скажет: «Какой ещё русский язык? Это же суржик американского!»
Неужели мы уже попали в оккупацию, пусть и культурную. А кто должен бороться с ней. Наверное, мы, учителя. И здесь вдохновляющими должны стать строки стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» (1942):
Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
Язык — это же не только метод общения, также он является одним из признаков жизни народа, его использующего; это книга, в которой отображается вся история развития народа, весь его исторический путь, начиная от древнейших времен до наших дней. В каждом слове прослеживается историческое прошлое, неотступно сопровождающее людей; прослеживается настоящее, и, возможно, будущее всех тех, кто с молоком матери впитывал в себя русские слова, наполненные любовью близких и дорогих сердцу людей.
Если изменить слово — может измениться чья — то судьба. Если изменить язык — изменится судьба целого народа… Но что будет с людьми, если их язык уничтожить, забыть, вычеркнуть из истории, стереть с лица земли?
Да, трудно противодействовать этому напору: дошли до того, что в старших классах только один урок русского языка в неделю, а иностранного три и более в зависимости от специализации школы. С одной стороны логика ясна: остальные предметы на русском языке ведутся – хватит и одного урока. Но при таком положении дел воцарилась безграмотность, которая только способствует проникновению иностранных словечек в нашу жизнь и быт. Мне кажется, что именно классные часы должны стать тем дополнительным уроком познания, именно познания всего богатства нашего удивительного, богатого языка. Давайте также не забывать уроков МХК: необходимо в них делать акцент именно на русский язык и русскую литературу.
Источник
Сохранение русского языка (проблемы, позиции)
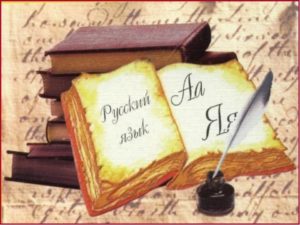
Историк XIX столетия Егор Классен писал: «Славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде Римлян и даже самих греков, и исход просвещения был от Руссов на запад, а не оттуда к ним».
Собственно, русский язык и делает нас русскими, представителями русской цивилизации. Наступление западной культуры, «американизация» общества, деградация языка ведет к утрате «русскости». Именно поэтому обращение к жизни русского языка как основе бытия нашего народа, осознанное и целенаправленное изучение русского языка и обучение ему как родному, второму родному, также распространение его в мире – непременное и первостепенное условие сохранения русской цивилизации.
К сожалению, за рубежом носители языка (люди советского поколения) уходят из жизни, их дети уже не знают русского языка. В силу политических факторов русский язык находится под давлением со стороны местных властей (особенно в Прибалтике и на Украине). Вытеснен русский язык в странах Центральной и Восточной Европы.
В самой России в сфере русского языка ситуация неутешительная. В 90-е гг. началось разрушение русской (советской) системы образования, ко-торая была лучшей в мире. Произошел разрыв единого образовательного пространства. В школах разные учебники русского языка. Изучению русского языка выделяют меньше времени, чем иностранному. Большой вред нанесло введение ЕГЭ. Дети утрачивают возможность не только грамотно излагать письменно свои мысли, но и выражать их в устной речи. Кроме того в школу приходит новое поколение учителей (поколения «демократического выбора»). Падает качество преподавания, а компьютеризация только ухудшает положение. Определенную роль в разрушении русского языка играют СМИ, особенно телевидение. Англицизмы, сленг заполнили ТВ. Русский литературный язык активно упрощают и вытесняют. В результате происходит деградация русского языка как на уровне образования, так и на бытовом уровне.
В беседе митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) и актера театра и кино, художественного руководителя Малого театра Ю. Соломина были затронуты вопросы сохранения традиций эталонной русской речи. Митрополит Иларион отметил, что «Патриарх Кирилл неслучайно принял предложение Президента возглавить Общество русской словесности, потому что как никто другой понимает важность заботы о русском языке (Сергей Степашин – российский государственный и политический деятель – назвал его лучшим оратором России)».
Ю. Соломин отметил прекрасную речь Патриарха, его прекрасно по-ставленный голос, точную мысль. «Своим студентам, – сказал Ю. Соломин,– я советую ходить в церковь, слушать, как там говорят, ибо в церкви еще осталась русская речь. Из театра она, к сожалению, уже стала уходить».
Его продолжил митрополит Иларион: «То, как Патриарх говорит, связано с его образом мысли, воспитанием, внутренней духовной культурой. И это именно то, чем занимается Церковь на протяжении веков. Что такое душа? В чём смысл жизни? Как нужно правильно жить? Именно на такие вопросы отвечает Церковь. И конечно же, то, что многие наши священнослужители владеют литературной речью, умеют правильно говорить, – не есть результат какой-то особой тренировки (этому не учат в семинариях), но это плод той внутренней духовной культуры, носительницей которой на протяжении веков была и остается Церковь».
Профессор Бекасова объясняет, из-за чего наша культура потеряла сильные позиции в мире, почему страны меняют кириллицу на латиницу: «Дело в политике. Как только Россия уступает, идет отталкивание ее культурного наследия. А ведь Россия по интеллектуально-культурному фонду одна из первых в мире, она востребована. Я видела за рубежом людей (словаков, болгар, чехов, немцев, шведов, африканцев), которые, заинтересовавшись, русской литературой, начинают изучать русский язык, и у них меняется ментальность, они начинают смотреть на мир глазами русских».
«Исторический процесс двигается… теми, кто созидает духовную общность, сохраняет традиции, – продолжает она. Кириллица – это наше достояние. По политическим соображениям Узбекистан отказался от кириллицы, переходит на латиницу, у которой нет никаких традиций в этой стране. Новое поколение не сможет осваивать литературу, написанную на кириллице. То же может произойти и в Казахстане… Народ скрепляют традиции, а теперь его может постичь внутренний раскол старого и нового… Украина собирается перейти на латиницу. Без корней же новое не приживается. Кроме того переход сложен технически. В латыни 24 буквы, в кириллице, созданной специально для славянских языков, их больше. Мы должны передавать потомкам самое лучшее, сохранять сокровище – родное слово. Для нас кириллица должна быть символом. В современных азбуках на букву «Э» приводят слово «эму», на «Ш» – шиншиллу. А ведь азбука – это интеллектуально-культурный код… Кирилл (Константин Философ) создал алфавитную систему, в которой каждая буква мела свое название, а всё вместе складывалось в азбучную молитву, некий нравственный код, завещанный славянам. Дети вырастали на ней, в их жизни было место высокому. Кириллица наследовала красоту и богатство греческого языка. В этом специфика российской ментальности, в генах которой греческий и богатейший старославянский язык. Главная задача Кирилла была (о чем он писал в «Прогласе») в следующем: отучить славян от скотского жития, приблизить к Богу, дать другую ментальность. Он не миссионер, а учитель славянского народа. Так через язык и культуру мы выработали механизмы, которые помогают нам отказаться от нечеловеческого образа жизни. Русский язык и сейчас представляет всё, чтобы тот, кто говорит на нем, мог стать лучше. Русское слово может спасти. Об этом надо знать всем, кто связан с наставничеством, воспитанием детей и молодежи.
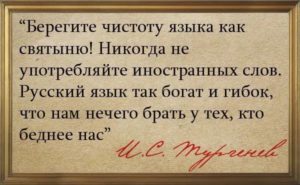
Одной из причин увлечения подростков сленгом, жаргоном, как утверждают психологи, является скудность их словарного запаса. Молодые люди используют не более 200 слов. У их предков: Пушкина, Гоголя, Есенина – словарный запас превышал 17–20 тысяч слов! Очевидно необходимо для молодежи активное приобщение к богатому наследию отечественной литературы!
Что касается ненормативной лексики… «Сквернословие, – говорит епископ Варнава (Беляев), – гнусный порок, который в Священном Писании приравнивается к смертному греху». Сквернословие, нецензурные выражения не являются человеческим языком! Воздействие брани равносильно облучению в 10–40 тысяч рентген – рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы!
В книге «Слово живое и мертвое» Нора Галь (известная русская переводчица) очень убедительно разоблачает канцелярит. У него есть точные приметы. Это – вытеснение глагола (т.е. движения, действия) причастием, деепричастием, существительным (особенно отглагольным), а значит – застой, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву. Это – нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и том же падеже – родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Это – обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить русскими. Это – вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми. Это – путаный строй фразы, несчетные придаточные предложения (вдвойне тяжеловесные и неестественные в разговорной речи). Это – серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь… Короче говоря, канцелярит – это мертвечина. Он проникает и в художественную литературу, и в быт, и в устную речь. Из официальных материалов, из газет, от радио и телевидения канцелярит переходит в повседневную практику.
«Глаголом жечь сердца людей…» Глагол – т.е. слово – должен быть жарким, живым. Самое действенное, самое взволнованное слово в нашем языке – как раз глагол. Быть может, не случайно так называется самая живая часть нашей речи… Громоздкими канцелярскими оборотами жечь сердца, затронуть душу довольно трудно. Обилие существительных, особенно отглагольных, тяжелит и сушит речь», – подчеркивает Нора Галь. И далее: «Не нужно злоупотреблять причастиями и деепричастиями, тем более сводить их в одном предложении». Она напоминает высмеянное А.П. Чеховым: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа…» Живой современной русской речи деепричастия не очень свойственны, и причастными оборотами люди тоже говорят редко.
Если не строить километровые цепи придаточных, тогда вас поймут с первого раза… Можно писать периодами хоть в страницу, но так, чтобы можно было понять написанное… Строй фразы должен быть ясен, каждая строка должна быть естественной. Порядок слов в каждой фразе должен быть непринужденным, чисто русским. Три коротких слова «знаю я вас» – совсем не то же самое, что «я вас знаю». В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но как меняется сумма чувств и настроений, музыкальное и эмоциональное звучание фразы от перестановки тех же слов, иногда одного только слова! Наши грамматика и синтаксис позволяют чуть ли не любые слова в предложении поменять местами (у нас простора больше, чем в западноевропейских языках). Русская фраза отнюдь не должна быть гладкой, правильной, безличной, точно из школьного учебника: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение…
Нельзя терять душевный такт. Со словом надо обращаться осторожно! Оно может исцелить, но может и ранить. Неточное слово – плохо, но еще опасней бестактное слово. Оно может опошлить самые высокие понятия, самые искренние чувства. Человек перестает ощущать окраску слова, не помнит его происхождения и говорит «охранники природы» вместо «хранители». Всё зависит от того, верно ли выбрано слово именно для данного случая. И самое хорошее слово становится плохим, если сказано не к месту. Тут-то и нужен такт, верное чутье.
Бороться за чистоту, точность и правильность языка можно и нужно. Необходимо широкое общенародное распространение научных сведений о законах и правилах русского языка, о его стилистических богатствах, о спо-собах образования новых слов, об огромной роли языка как «орудия культуры», как средства познания, как условия нравственности. Необходимо также воспитание эстетического чутья языка и глубокого сознания ответственности за честное и чистое обращение c ним.
Варвара Проценко,
преподаватель русского языка
и литературы
Источник




