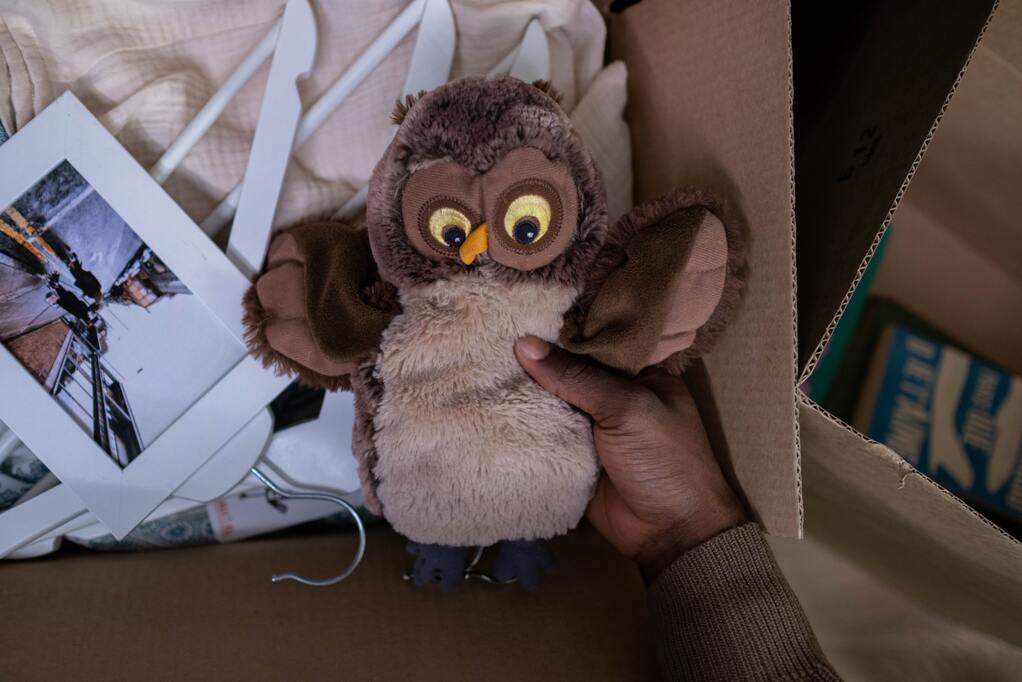- Способы разрешения конфликтных ситуаций
- Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?
- Стратегии поведения в конфликте
- Конкуренция: акула. Как хищник при нападении
- Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь
- Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все
- Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!
- Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию
- Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском праве
- Библиография
Способы разрешения конфликтных ситуаций
Почему мы конфликтуем? На каком этапе общения рождается открытая конфронтация?
Конфликт — это столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, целей. Обычно он связан с отрицательными эмоциональными переживаниями, основан на эмоциях и личной неприязни.
Рассмотрим стандартную цепочку:
1. Установление контакта → 2. Ориентация в ситуации → 3. Обсуждение проблемы → 4. Принятие решения → 5. Выход из контакта. Открытый спор возникает при переходе от пункта 3 к пункту 4 — как правило, из-за того, что стороны не владеют психологическими техниками: не слушают друг друга и не умеют убеждать.
Конфликт выстраивается по простой формуле:
КС — это конфликтная ситуация (накопившиеся противоречия), И — инцидент (обстоятельства, повод), К — сам конфликт (открытое противостояние как следствие).
«Чтобы выйти из контакта, необходимо разрешить проблему: устранить ситуацию и исчерпать инцидент. Иначе выход не произойдет. Важно понимать, что сам инцидент — это своеобразная верхушка сорняка. Если ее сорвать и не устранить корень, все только усугубится».
Конфликт возникает в разных ситуациях из-за столкновения интересов. Например, поссорились вы со своим сотрудником из-за премии, с коллегой из другой школы из-за расхождения взглядов на воспитание, с администрацией из-за бюджета и т.д. Это все самый распространенный, межличностный тип.
Бывают еще противостояния групп (руководство и подчиненные, «лентяи» и «трудяги», консерваторы и изобретатели и т.д.) — это межгрупповой тип, самый разрушительный и интенсивный. Случаются и внутриличностные разногласия — например, из-за того, что уже собраны чемоданы для долгожданного семейного отпуска, но дела вдруг требуют присутствия на работе.
В конфликтах есть объекты (причины), субъекты (активные стороны), участники, косвенные участники. Их роли могут меняться. В конце концов каждая конфронтация оказывается деструктивной или конструктивной. Первый вариант не сулит ничего хорошего, а для конструктивного исхода необходимы адекватность восприятия ситуации, открытое общение и, конечно, создание атмосферы доверия, сотрудничества.
У каждого человека формируются привычные стратегия и тактика поведения в конфликтах. Чтобы лучше управлять происходящим, нужно идентифицировать свою стратегию и установки окружающих людей, корректировать свою тактику.
Стратегии поведения в конфликте
Конкуренция: акула. Как хищник при нападении
«+» возможность абсолютной победы, эффективность в экстремальных условиях
«-» возможность жесткого проигрыша, недолговечность результатов
Когда стратегия оправдана:
- опасная обстановка;
- «нечего терять»;
- ресурсы (власть) гарантируют победу;
- ставки крайне высоки;
- нужно продвинуть непопулярное, но верное решение;
- необходимо произвести впечатление на сторонних наблюдателей.
Тактические действия: контроль противника и его источников информации, постоянное давление всеми доступными средствами, обман, хитрость, провокации, нежелание вступать в диалог.
Каким личностям свойственна: властным, нетерпимым к инакомыслию, ретроградным, боящимся критики, боящимся сбора информации о себе, игнорирующим коллективное мнение.
Уклонение: черепаха. Побег в уютный панцирь
«+» демонстрация запущенности проблемы, компенсаторные факторы (сочувствие, помощь со стороны), экономия сил.
«-» демонстрация своей пассивно-страдальческой установки, усугубление положения из-за неразрешенного противоречия, распространение влияния ссоры на разные области жизни (вплоть до появления психосоматических заболеваний).
Когда стратегия оправдана:
- победа не имеет принципиального значения;
- важнее спокойствие и стабильность;
- важнее сохранить хорошие отношения;
- есть угроза более серьезного разногласия;
- понимание своей неправоты;
- безнадежность проблемы;
- незначительность проблемы;
- победа требует слишком больших затрат.
Тактические действия: демонстративный уход, отказ от силовых приемов, отказ от сбора фактов, отрицание остроты конфликта, медлительность в принятии решений.
Каким личностям свойственна: застенчивым, слишком восприимчивым к критике, склонным к позиции «авось обойдется», не умеющим управлять беседой.
Сотрудничество: лиса. Осторожность — наше все
«+» возможность справедливого исхода и равнозначного разделения благ
«-» зависимость от чужих уступок, растрата сил на ведение переговоров, возможность стать жертвой обмана в процессе торга, недолговечность решения проблемы.
Когда стратегия оправдана:
- обе стороны убедительны;
- дефицит времени;
- сотрудничество и директивный подход неэффективны;
- ресурсы оппонентов равны;
- нужно временное решение;
- победа не имеет принципиального значения;
- лучше получить что-то, чем все потерять.
Тактические действия: торг, обман, лесть, требование равного дележа.
Каким личностям свойственна: осторожным, нетерпимым к резкости, не любящим углубляться в детали.
Улаживание: плюшевый мишка. Делайте, что хотите — только давайте жить дружно!
«+» в некоторых случаях проблема решается сама собой благодаря дружеским отношениям.
«-» жертвование личными целями, доведение до ситуации самосохранения, неразрешенность проблемы.
Когда стратегия оправдана:
- победа не имеет принципиального значения;
- важнее сохранить хорошие отношения;
- нужно выиграть время;
- уступить — значит одержать моральную победу.
Тактические действия: соглашательство, демонстрация непритязательности, потакание, лесть.
Каким личностям свойственна: бесхребетным, угодливым, «мечта манипулятора».
Компромисс: сова. Любовь к здравомыслию
«+» проработка проблемы, возможность конструктивного разрешения конфликта
«-» затрата сил и времени для волевых решений и мудрого управления ситуацией (не воспользоваться слабостями «Черепахи» и «Плюшевого мишки», противопоставить поведению «Акулы» мирные средства)
Когда стратегия оправдана:
- взаимовыгодное решение крайне важно;
- длительные близкие отношения с другой стороной;
- достаточно времени для проработки проблемы;
- ресурсы оппонентов равны.
Тактические действия: сбор информации о проблеме и противнике, тщательный подсчет ресурсов, открытый диалог, критика «по делу», проявление своих талантов для оказания влияния, принятие разумных идей оппонента.
Каким личностям свойственна: инноваторам, не терпящим оскорблений, умеющим отбросить эмоции.
Источник
Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском праве
Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса Ивановского государственного университета.
Институт альтернатив уголовному преследованию проанализирован через призму объективной и универсальной тенденции дифференциации способов официальной реакции государства на нарушение уголовного закона. Определено место альтернативных мер в системе уголовного судопроизводства. Подняты проблемы оптимальных процессуальных форм освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел в контексте таких направлений современной уголовно-процессуальной политики России, как дифференциация уголовного процесса, демократизация и примирение. Исследованы основные положения концепции восстановительного правосудия, а также опыт проведения медиативных процедур по делам несовершеннолетних. Исследование проведено в историческом и сравнительно-правовом аспектах с учетом общих тенденций развития уголовного и уголовно-процессуального права большинства современных государств. Выявлена тенденция применения судами РФ восстановительных процедур при производстве по делам несовершеннолетних и установлена общая схема использования ими примирительных программ на основе обобщения правоприменительной практики. Существует единство общемировых и российских тенденций развития альтернатив уголовному преследованию. Необходимо использовать обширный опыт зарубежного судопроизводства по их применению. Альтернативы уголовному преследованию являются одной из форм дифференциации уголовного процесса, это институт уголовно-процессуального права. Альтернативные меры должны дополнять классическую уголовную юстицию. Российским вариантом альтернатив являются институты освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел. Восстановительное правосудие — один из возможных вариантов альтернатив уголовному преследованию. Российское уголовно-процессуальное законодательство содержит потенциал для развития примирительных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов. Необходимо внедрять примирительные процедуры в российский уголовный процесс. Медиация имеет непосредственную связь с институтами традиционного уголовного судопроизводства. Возможна имплементация процедуры медиации в российское уголовно-процессуальное законодательство. Необходимо разработать закон о медиации в рамках уголовного судопроизводства. В некоторых субъектах РФ успешно применяются элементы восстановительного правосудия с учетом рекомендаций международно-правовых актов при производстве по делам несовершеннолетних.
Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, дифференциация уголовно-процессуальной формы, диспозитивность, традиционное уголовное судопроизводство, альтернативы уголовному преследованию, освобождение от ответственности, прекращение уголовного дела, восстановительное правосудие, примирение, медиация.
Alternative means of criminal legal conflicts resolution in contemporary russian law
Kuzmina Olga Vladimirovna, phD in law, professor, department of criminal law and procedure, Federal state budgetary educational institution of Higher Professional Education «Ivanovo state university».
The institution of alternatives to criminal prosecution has been subjected to analysis via the objective and universal tendency of applying different means of the state’s reaction to criminal law violations. There has been defined the place of alternative means in the framework of criminal procedure. There have been studied the issues of the utmost efficiency of procedural forms of discharge from criminal responsibility and dismissal of criminal cases in the context of such tendencies in the current criminal procedural policy of Russia as differentiation of criminal procedure, democratization and reconciliation. There have been studied the main ideas of the concept of rehabilitative justice as well as the experience of conducting meditative procedure in juvenile crime cases. The research has been performed in the historical and the comparative legal aspects with reference to the general tendencies of the development of criminal and criminal procedural law of the majority of modern states. There has been discovered that the courts of the Russian Federation tend to apply rehabilitative procedures in dealing with juvenile crime cases and there has been identified the common pattern which is shared by the courts in applying reconciliatory programs on the basis of generalization of the law applying experience. There exists the uniformity of world and Russian tendencies in the development of alternatives to criminal prosecution. It is necessary to make use of the extensive foreign experience of criminal procedure in their application. Alternatives to criminal prosecution appear to be one of the forms of criminal procedural differentiation; it is the institution of criminal procedural law. The alternative measures should contribute to the classical criminal justice. The alternative chosen by the Russian justice system is the institutions of discharging from criminal liability and terminating criminal cases. The rehabilitative justice is one of the possible alternatives to criminal prosecution. The Russian criminal procedural legislation enjoys great possibilities for the development of reconciliatory forms of resolution of criminal legal conflicts. Mediation has a direct connection with institutions of traditional criminal procedure. There exists the possibility for the implementation of mediation procedure into the Russian criminal procedural legislation. It is vital to work out the law on mediation in the framework of criminal procedure. In some constituent entities of the Russian Federation there successfully are being applied certain elements of rehabilitative justice taking advantage of the recommendations of international legal acts while dealing with juvenile crime cases.
Key words: criminal legal conflict, differentiation of criminal procedural form, optionality, traditional criminal procedure, alternatives to criminal prosecution, discharge from liability, termination of criminal case, rehabilitative justice, reconciliation, mediation.
Существующая в настоящий момент структура системы уголовного судопроизводства, формы и содержание отдельных элементов обусловлены изменившимися условиями существования российского государства и общества. Утверждение демократических начал, признание высшими ценностями прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве выразилось в расширении сферы действия состязательности, диспозитивности, сокращении публичных начал, увеличении объема полномочий участников, расширении сферы защиты прав и свобод граждан за счет усиления процессуальных гарантий.
С началом перестроечных процессов в 90-е гг. XX в. уголовное судопроизводство стало подвергаться ожесточенной критике как за чрезмерную громоздкость, так и за отсутствие в нем реальных механизмов, которые обеспечивали бы справедливое разрешение дела и препятствовали произволу со стороны должностных лиц правоохранительных органов. Таким образом, проблемы процессуальной экономии, с одной стороны, и необходимость совершенствования процессуальных гарантий — с другой, приобрели острую актуальность. Особую важность указанным проблемам придавало также осознание того, что уголовное судопроизводство затрагивает не только интересы участников процесса, но и интересы государства и общества в целом, в силу чего определяющим для его форм должно являться их социальное предназначение. Любые изменения в жизни общества (экономические, политические, культурные) неизбежно сказываются на формах уголовного судопроизводства.
На протяжении многих десятилетий XX в. уголовная политика России носила преимущественно репрессивный характер. Наша страна в течение длительного периода находилась на одном из первых мест в мире по численности заключенных. Однако, как показывает практика, жестокое наказание не перевоспитывает, а, наоборот, озлобляет человека. Необходимость законодательного закрепления приоритета прав человека стала важным фактором реформирования как уголовного, так и уголовно-процессуального законодательства. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее УПК РФ) утверждены личностные приоритеты, обозначен переход от репрессивного к охранительному типу судопроизводства, что свидетельствует о приверженности нашего государства ценностям гуманизма и фундаментальных прав и свобод человека. Конкретное содержание отношения «государство — личность» в сфере уголовного судопроизводства проявляется, с одной стороны, в исторической форме уголовного процесса, сущностным признаком которой является соотношения процессуальных статусов органов уголовного преследования и обвиняемого, защитника, а с другой стороны, в сочетании в нем публичных и диспозитивных начал . Существует неразрывная связь уголовной политики с общей конструкцией уголовно-процессуальной формы, обусловленной политическими, экономическими, историческими и культурными причинами. Поэтому призывы к расширению уголовной ответственности и усилению наказания не гармонируют с такими направлениями современной уголовно-процессуальной политики РФ, как гуманизация уголовного процесса, повышение защищенности личности, демократизация уголовно-процессуальных мер борьбы с преступностью .
См.: Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001. С. 117 — 118.
См.: Новиков С.А. Институт показаний в свете современной уголовно-процессуальной политики России: тенденции развития и актуальные проблемы // Правоведение. 2013. N 2. С. 201.
Концепция современного уголовного процесса заключается в том, что его назначение реализуется в процессуальной форме, которая, с одной стороны, способствует установлению обстоятельств дела, а с другой — обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан. Она воплощает в себе многовековой отечественный и зарубежный опыт борьбы с преступностью, отражает гносеологические и психологические закономерности и достижения общественной практики, включает в себя выработанные наукой и практикой наиболее эффективные и вместе с тем демократические, гуманные средства и способы установления объективных обстоятельств в деле и наказания виновных. Она призвана обеспечивать оптимальные условия для достижения целей судопроизводства. Уголовное преследование возможно только в процессуальной форме. Это лучшее, чего достигло человечество в данной сфере .
См.: Григорьев В.Н. О некоторых современных тенденциях в развитии уголовно-процессуальной формы // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: Сб. ст. М., 2010. С. 23.
Одно из концептуальных положений, предопределившее современную форму уголовного процесса, выражено в ст. 6 УПК РФ. Назначение уголовного судопроизводства в том, чтобы служить защите прав и свобод человека и гражданина, а не быть политическим орудием, средством борьбы с преступностью . Любая деятельность государства имеет смысл лишь тогда, когда направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Провозгласив приоритет личности, Конституция РФ придала ее интересам статус публичных. «Сущность уголовно-процессуального права двуедина, но по сравнению с уголовным правом преимущественное значение имеет та сторона этой двуединой сущности, которая гарантирует свободу граждан от злоупотребления государством своей репрессивной властью» . Уголовно-процессуальная политика должна соответствовать провозглашенному назначению уголовного судопроизводства. Учитывая рост преступности и ущерб от нее, важно вести речь не о борьбе с преступностью, а о ее удержании на социально терпимом уровне . Во всех случаях, когда есть возможность решить задачу при минимальном ограничении прав личности, необходимо отказываться от жестоких мер. Самым главным при формировании уголовной и уголовно-процессуальной политики является вопрос применения принуждения, гарантированности прав человека и законности их ограничения, оптимизации процессуальной формы. По сути, речь должна идти о решении проблемы баланса личных, общественных и государственных интересов в сфере уголовного преследования.
См.: Лупинская П.А. Высокое политическое значение уголовного судопроизводства // Lex Russica. N 2. С. 277 — 297.
Понятовская Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и инструментов уголовного и уголовно-процессуального права. Ижевск, 1996. С. 45.
См.: Смирнова И.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Томск, 2012. С. 26.
Развитие уголовного процесса в России происходит на собственной исторической основе, но с учетом международно-правового опыта. Основные заимствования, реализованные в ходе судебно-правовой реформы в нашей стране, касаются прав человека и суда: общепризнанные принципы, стандарты правосудия, суд присяжных и судебный контроль в стадии предварительного расследования. Вместе с тем существует объективная необходимость в использовании западного и своего исторического опыта реализации общих уголовно-процессуальных стратегий, тесно связанных с уголовно-процессуальной политикой современных государств: 1) защиты прав и свобод подозреваемого и обвиняемого; 2) уголовного преследования; 3) социальной поддержки обвиняемого; 4) социальной поддержки потерпевшего; 5) рациональности и эффективности уголовного судопроизводства; 6) примирения . Такими, на наш взгляд, должны быть тенденции и перспективы развития российского уголовного процесса.
См.: Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб., 2006. С. 240 — 241.
В последнее время в уголовной и уголовно-процессуальной политике разных стран наметился интерес к нетрадиционным формам реакции государства на нарушение уголовного закона. Поиск оптимальных способов разрешения конфликтов, возникающих в связи с совершением преступлений, связан, в первую очередь, с проблемой дифференциации, с необходимостью совершенствования уголовно-процессуальной формы, с рациональностью и экономичностью использования сил и средств судопроизводства, с обеспечением скорейшей защиты прав граждан и удовлетворением их интересов. Однако немаловажную роль в данном процессе сыграл кризис традиционной концепции реакции государства на преступление. Как следствие этого — желание найти альтернативные методы разрешения уголовно-правовых конфликтов, которое связано с частичной сменой приоритетов в системе уголовной юстиции.
Как известно, традиционными методами реакции государства на нарушение уголовного закона являются уголовное преследование, уголовная ответственность и наказание. Отказ от применения не только уголовного наказания, но и по возможности ото всех традиционных уголовно-процессуальных механизмов, развитие в законодательстве и правоприменительной практике разнообразных альтернатив уголовному преследованию стало одной из ключевых тенденций зарубежного уголовного судопроизводства. Она является объективной и универсальной, поскольку наблюдается почти во всех западных уголовно-процессуальных системах, как англосаксонских, так и континентальных . Безусловно, Россия не стоит в стороне от этих процессов, ибо на совершенствование системы уголовного судопроизводства в нашей стране существенное влияние оказывает зарубежное уголовно-процессуальное законодательство и общие тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального права, присущие большинству европейских государств. Одним из современных направлений развития системы уголовного судопроизводства Российской Федерации является разработка альтернативных процессуальных форм. Сложность изучения этого явления связана с тем, что не определены его четкие границы и не устоялась терминология. Альтернатива как характеристика может относиться как к уголовному преследованию, так и к наказанию. Мы остановимся на первом понятии. В широком смысле альтернативы уголовному преследованию являются и альтернативами наказанию, так как прежде чем назначить наказание, лицо необходимо подвергнуть уголовному преследованию.
См.: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации (современные тенденции развития): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 11 — 12.
Альтернативы уголовному преследованию — это сравнительно новое явление в уголовной юстиции. Однако определенные общие подходы к их пониманию и применению уже выработаны. Действия и процедуры, существующие вне традиционного уголовного процесса, могут применяться как на досудебных, так и в судебных стадиях до разрешения уголовного дела по существу. Они заменяют классические способы реакции государства на преступления иными формами реагирования на него. Альтернативами их можно считать только тогда, когда то, к чему относится альтернатива, является фактически возможным и юридически правомерным, т.е. при условии, что для начала, продолжения и завершения уголовного преследования имеются юридические и фактические основания .
См.: Головко Л.В. Указ. соч. С. 20.
Альтернативные меры направлены на решение множества задач. Они:
а) способствуют разрешению кризиса традиционной концепции реакции государства на нарушение уголовного закона и преодолению ее различных негативных эффектов;
б) позволяют найти оптимальные способы разрешения конфликтов, возникающих в связи с совершением, как правило, нетяжких преступлений (альтернативы уголовному преследованию, уголовной ответственности, уголовному наказанию);
в) дают возможность использовать наряду с методом принуждения метод поощрения;
г) способствуют дифференциации, ускорению, упрощению процесса, что снижает нагрузку на уголовную юстицию, которая может больше внимания уделить опасной преступности и тяжким преступлениям;
д) максимально быстро, в кратчайшие сроки восстанавливают права потерпевшего;
е) смягчают действие принципа целесообразности возбуждения уголовного дела и являются способом борьбы с полным отказом государства от реакции на конкретное преступление в некоторых зарубежных странах.
Таким образом, разработка процедур, существующих вне традиционного уголовного процесса, позволяет говорить о смене «парадигмы наказания» на «парадигму восстановления», которая направлена на примирение и преодоление вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уголовной репрессии.
Следует признать, что традиционный уголовный процесс не всегда позволяет с успехом разрешить уголовно-правовой конфликт, который представляет собой столкновение полярных интересов лица, совершившего преступление, и потерпевшего, общества, государства в сфере общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Привлечение к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания (как наиболее вероятный исход уголовного судопроизводства) предполагает принуждение и не во всех случаях является эффективным способом устранения уголовно-правового конфликта и воздействия на состояние преступности в целом. Карательный подход к решению проблемы преступности в совокупности с недостатками пенитенциарной системы не всегда позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, а также достичь цели превенции. Необходимо обратить внимание на такие факторы, как рост преступности в целом (в том числе и преступности несовершеннолетних), значительное число преступлений небольшой и средней тяжести. Места лишения свободы, где содержатся также лица, осужденные за незначительные преступления, не способствуют исправлению преступников, предупреждению преступности, а во многом порождают рецидивную преступность. Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, утрачивают способность к социальной адаптации, к жизни в нормальном обществе в связи с отсутствием реабилитационных программ. Они вновь совершают преступления в связи с утратой социальных связей, неприспособленностью к жизни на свободе, отсутствием возможности устроиться на работу . Недостаточная защищенность интересов потерпевшего, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения преступления также обусловливают потребность в выработке современных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов. В связи с этим законодатель предусмотрел применение поощрительных норм, которые стимулируют определенное поведение виновного. Применение поощрений позволяет искать такие решения, которые бы удовлетворили всех участников конфликта и явились способами достижения согласия и примирения сторон. Поощрительные нормы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве предполагают наличие альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов.
См.: Нагуляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 3.
Проблемы борьбы с преступностью, оптимизации системы уголовного судопроизводства, защиты прав его участников и возмещения вреда лицам, в отношении которых было совершено преступление, развития примирительных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов нашли свое отражение в документах международного характера. К ним можно отнести Венскую декларацию 2000 г. о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в. , Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 1985 г. , Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила) . Комитет министров государств членов Совета Европы в своих Рекомендациях от 17 сентября 1987 г. одобрил идею внесудебного урегулирования уголовно-правовых споров и предложил его конкретные модели . Позже появилась Рекомендация Комитета министров государств — членов Совета Европы от 15 сентября 1999 г., которая была специально посвящена медиации в уголовном процессе как новейшей форме альтернативной реакции государства на преступление . Важно также упомянуть Основные принципы применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия, утвержденные Резолюцией Экономического и социального Совета ООН от 24 июля 2002 г. N 2002/12 . Эти документы исходят из необходимости дифференцированного подхода к рассмотрению и разрешению уголовных дел различных категорий, к максимальному обеспечению прав потерпевших, к внедрению восстановительных технологий в уголовный процесс, в том числе примирительных процедур. В этой связи можно только приветствовать появление и формирование в разных странах нового института уголовно-процессуального права — института альтернатив уголовному преследованию.
Принята на Десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 — 17 апреля 2000 г. URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/declaration/vendec.shtml (последнее обращение — 3 апреля 2014 г.).
Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. N 40/34 // Международные акты о правах человека: Сб. документов. М., 1999. С. 165 — 168.
Приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. N 40/33 // Там же. С. 284 — 306.
Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. N 6R (87) 18 «Относительно упрощения уголовного правосудия» // Сборник документов Совета Европы в области прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116 — 122.
Рекомендация Комитета министров Совета Европы N R (99) 19 «Посредничество в уголовных делах» // Российская юстиция. 2003. N 9. С. 16 — 18.
URL: www.un.org/ru/ecosoc/docs/2002/r2002-12.pdf (последнее обращение — 3 апреля 2014 г.).
Современное российское уголовное судопроизводство тоже находится в процессе поиска оптимального соотношения между традиционными процессуальными институтами и новыми, внедряемыми для решения задач дифференциации процессуальной формы, увеличения диспозитивности в рамках уголовного процесса, максимально полного восстановления прав потерпевшего.
Россия остается одной из немногих стран, где нет принципа целесообразности возбуждения уголовного преследования, который серьезно повлиял на развитие альтернатив уголовному преследованию за рубежом. В середине 20-х гг. прошлого века законодатель, сначала предусмотрев принцип целесообразности в УПК РСФСР 1923 г., изменил свою позицию и перенес его в УК РСФСР 1926 г. С тех пор он стал традиционным для уголовного права (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Таким образом, он является не процессуальным, а материально-правовым; в уголовном же процессе действует принцип законности. Это, в свою очередь, привело к тому, что в России альтернативы уголовному преследованию, главным образом, развиваются в системе уголовного права.
Советский уголовный процесс был особенно репрессивным, однако в то время существовали товарищеские суды, деятельности которых были присущи признаки восстановительного правосудия, но этот институт был упразднен. Так, товарищеские суды рассматривали, в числе прочего, дела о не представляющих большой общественной опасности преступлениях, и, по сути, использовали некоторые технологии, сходные с программами восстановительного правосудия — представители общественности реагировали на недостойное поведение (в том числе преступное). Кроме того, товарищеские суды участвовали в деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Учет положительных признаков этого института советского времени позволяет обосновать целесообразность внедрения и адаптации в уголовном процессе РФ элементов программ восстановительного правосудия. Таким образом, в отечественном праве поиск альтернатив уголовному преследованию увенчался положительным результатом еще в УК и УПК РСФСР 1960 г., в которых предусматривалось освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного дела с передачей лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу, в связи с передачей дела в товарищеский суд или комиссию по делам несовершеннолетних. Данное направление уголовной политики сегодня развивается путем применения более современных оснований освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел (преследования). Этому, безусловно, способствовало принятие УК РФ и УПК РФ.
Российским вариантом альтернатив уголовному преследованию можно считать институт освобождения от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 75, ст. ст. 76, 90 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности при наличии этих оснований является правом компетентных органов, а не их обязанностью. Кроме того, особое значение здесь имеет позитивное поведение лица, выраженное в конкретных указанных законодателем действиях, отражающих его волю устранить вредные последствия преступного деяния. Все остальные основания либо совсем не могут быть отнесены к альтернативному уголовному преследованию (ст. 78, ч. 2 ст. 84 УК РФ), либо частично вписываются в концепцию альтернатив (ст. 77 УК РФ, большинство специальных оснований освобождения от уголовной ответственности). Единственным процессуальным решением, на основании которого лицо освобождается от уголовной ответственности, являются постановление о прекращении уголовного дела и постановление о прекращении уголовного преследования.
Основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ст. ст. 75, 76, п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ, предполагают возмещение ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступлением. Однако в России нет таких альтернативных механизмов (способов), которые специально направлены на восстановление прав потерпевшего (прежде всего, медиации). В зарубежных государствах, и прежде всего в странах англосаксонского права, накоплен богатый опыт вовлечения в сферу уголовного процесса различных программ восстановительного правосудия, в т.ч. медиации . Напомним, что они рекомендованы рядом международно-правовых документов прежде всего при разрешении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Восстановительное правосудие является одним из вариантов альтернатив уголовному преследованию, который в последнее время завоевывает все больший авторитет в мировой юридической практике. Основным моментом здесь является не наказание, а примирение правонарушителя с жертвой и возмещение ущерба. «Основной целью правосудия становится не только восстановление нарушенного правопорядка, но и возмещение потерпевшему причиненного преступлением вреда, искупление вины обидчиком, взятие на себя ответственности, восстановление нарушенных отношений в социальной общности» . Главными действующими лицами, которые решают проблемы, связанные с совершенным преступлением и его последствиями, становятся правонарушитель и жертва. Отличительным признаком восстановленных программ является участие в них независимого, беспристрастного и объективного профессионально подготовленного посредника, главным назначением которого является налаживание контакта между сторонами. Именно это в последующем позволит участникам программ вести конструктивный диалог. Таким образом, восстановительная юстиция основана на использовании альтернативных уголовному преследованию механизмов, которые предлагают примирение сторон конфликта и позволяют разрешить его с наибольшим положительным эффектом для сторон. Механизмы, предложенные разработчиками данной концепции, нашли свое применение в уголовном процессе многих государств. Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов в рамках этой концепции является медиация, т.е. разрешение спора путем переговоров с участием третьего лица, в роли которого выступает посредник — медиатор . В российской правовой системе есть определенный аналог иностранных примирительных альтернатив, направленных на восстановление прав потерпевшего, в виде освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ). Однако нельзя считать этот российский институт вариантом медиации, поскольку в нем не предусмотрены процедуры, направленные на инициирование государственными органами примирения между потерпевшим и обвиняемым. В отличие от медиации факт примирения лишь просто констатируется дознавателем или следователем. Примирение при этом носит формальный характер, так как достаточно согласия сторон. Одним из недостатков российских альтернатив уголовному преследованию, в основном предусмотренных ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, которые отличают их от западных аналогов, прежде всего, института медиации, является отсутствие в законе каких-либо мер, направленных на оказание сторонам уголовно-правового конфликта помощи в примирении, заглаживании вреда и т.д. Данное обстоятельство существенно снижает потенциал соответствующих мер уголовной политики, в то время как за рубежом законодательство и правоприменительная практика выработали детальные механизмы активной помощи сторонам с целью их примирения и преодоления вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уголовной репрессии. В этой связи необходима разработка закона о медиации в рамках уголовного судопроизводства по аналогии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)». Таким образом, российское уголовно-процессуальное законодательство содержит потенциал для развития примирительных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов, однако он пока не реализован. На наш взгляд, можно сделать вывод о необходимости внедрения примирительных процедур в уголовное судопроизводство и разработки концепции медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов с учетом особенностей российского уголовного процесса. Внедрение примирительных процедур будет способствовать достижению фактического примирения, исключит возможность давления на потерпевшего и желание обвиняемого откупиться. Необходимо предусмотреть участие профессионально подготовленного посредника в процедуре примирения. Только в результате переговоров обвиняемого с потерпевшим с подробным обсуждением всех аспектов преступления и его последствий, с искренними извинениями, принесенными потерпевшему, возмещением ущерба будут защищены и гарантированы права и законные интересы примирившихся сторон. При этом деятельность медиатора должна быть объективной, беспристрастной, независимой от сторон и лица, ведущего процесс, незаинтересованной в условиях заключаемого соглашения, конфиденциальной и безвозмездной.
См.: Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран англосаксонского права: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2013. С. 3.
Нагуляк М.В. Указ. соч. С. 3 — 4.
Монография А.А. Арутюнян «Медиация в уголовном процессе» включена в информационный банк согласно публикации — Инфотропик Медиа, 2013.
Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2012. С. 4.
Как уже было отмечено, действующее уголовно-процессуальное законодательство прямо не предусматривает применение восстановительных программ. Однако в ряде регионов РФ суды используют элементы восстановительного правосудия в рамках ювенальной юстиции. В частности, в 52 субъектах РФ они успешно применяются с учетом рекомендаций международно-правовых актов при производстве по делам несовершеннолетних . Судейское сообщество поддерживает подобный опыт и призывает к его дальнейшему развитию. Так, обобщение практики ряда судов Ивановской области позволило выявить порядок и форму применения примирительных программ. Судья поручает специалисту органов соцзащиты, психологу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или помощнику судьи составить карту социально-психологического сопровождения, в которой содержится характеристика обвиняемого. Психолог выступает только посредником, а стороны должны самостоятельно примириться на определенных ими условиях. Служба примирения и комиссия по делам несовершеннолетних проводят примирительную программу, в результате которой заключается примирительное соглашение. Оно и другие отчетные документы направляются в суд и приобщаются к материалам дела как содержащие сведения о личности обвиняемого. Положительные результаты примирительной программы могут быть учтены судом как основание для принятия решения о прекращении уголовного дела или смягчающее обстоятельство. При этом суд утверждает индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего, оформленный в виде частного определения.
Василенко А.С. Указ. соч. С. 25.
Что касается особых порядков принятия судебных решений, предусмотренных гл. 40 и 40.1 УПК РФ, то они не являются российскими альтернативами уголовному преследованию, поскольку не подпадают под данное ранее понятие этих мер и не обладают их признаками. Эти специфические институты российского уголовного процесса представляют собой новые континентальные способы дифференциации уголовного судопроизводства.
Большинство иностранных альтернатив применяется до решения о возбуждении уголовного преследования (дела), тогда как в России закон предусматривает возможность их применения только после возбуждения уголовного дела. В этом смысле необходимо поддержать высказанное в литературе предложение о том, что возможной процессуальной формой освобождения от уголовной ответственности должен стать институт отказа в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица .
См.: Головко Л.В. Указ. соч. С. 40.
Альтернативы уголовному преследованию являются объективным явлением дифференциации уголовной юстиции, способствуют расширению демократических начал, реализации принципов гуманизма и участия общественности в судопроизводстве. Они обладают несомненным положительным потенциалом, на что указывает как опыт применения зарубежных вариантов альтернатив уголовному преследованию, так и практика российских оснований освобождения от уголовной ответственности. Однако переоценка альтернатив уголовному преследованию и распространение их на необоснованно широкий круг преступлений способны причинить не меньший вред, чем полное отсутствие таких мер в правовой системе. Не случайно в последнее десятилетие в западной доктрине появилось новое движение, направленное на предупреждение злоупотребления применением альтернатив уголовному преследованию. Альтернативы уголовному преследованию не должны вытеснять традиционные методы реакции государства на нарушения уголовного закона, а могут только дополнять их и применяться в строго очерченных законом пределах по определенным категориям преступлений.
Библиография
Монография А.А. Арутюнян «Медиация в уголовном процессе» включен в информационный банк согласно публикации — Инфотропик Медиа, 2013.
- Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2012.
- Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран англосаксонского права: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2013.
- Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации (современные тенденции развития): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2003.
- Григорьев В.Н. О некоторых современных тенденциях в развитии уголовно-процессуальной формы // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики: Сб. ст. М., 2010.
- Лупинская П.А. Высокое политическое значение уголовного судопроизводства // Lex Russica. 2008. N 2.
- Нагуляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2012.
- Новиков С.А. Институт показаний в свете современной уголовно-процессуальной политики России: тенденции развития и актуальные проблемы // Правоведение. 2013. N 2.
- Понятовская Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и инструментов уголовного и уголовно-процессуального права. Ижевск, 1996.
- Смирнова И.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Томск, 2012.
- Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб., 2006.
- Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001.
Источник