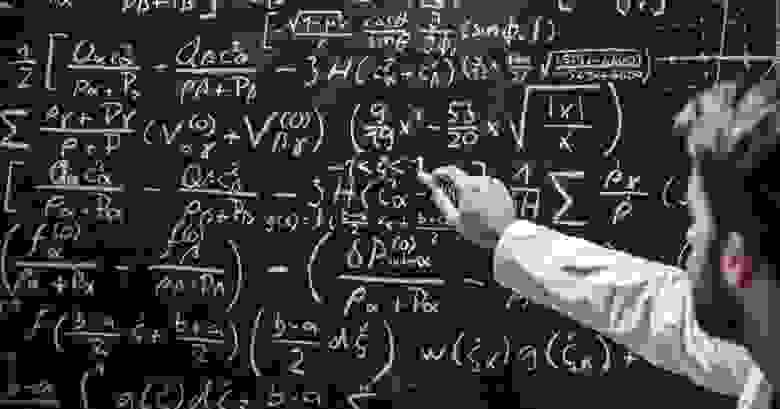О применении научного метода в реальной жизни и деятельности
В человеческой культуре есть один удивительный парадокс. Еще 300 лет назад был изобретен потрясающий по эффективности способ познания реальности под названием «Научный метод». Его достижения сегодня мы видим повсюду – в виде огромного развития науки и техники. И в чем тут парадокс, спросите вы? А парадокс заключается в том, что этот метод, дающий столь масштабные результаты, большей частью людей практически не используется!
Это действительно странно, но это факт. Уже черт знает сколько лет изобретенный способ максимально эффективного взаимодействия с реальностью (и проверенный миллионами экспериментов) – даже учеными, как правило, используется не всегда. Выходя из научной лаборатории, ученые забывают о научном методе. Про всех остальных и говорить нечего.
По сути говоря, большая часть населения планеты до сих пор живет в средневековье. Чтобы пояснить, что это означает, я для начала расскажу, в чем же собственно заключается научный метод и как он возник.
Тут следует сказать, что до определенного момента научная и философская мысль исходила из весьма странных для современного человека посылок. Из того, что есть древнее знание, мудрое и окончательное, на которое только и следует опираться, а мир нужно познавать, делая логические выводы из оного знания. И никак более.
Под древними знаниями, сразу скажу, подразумевалась не только Библия, но и античные учения – например, Аристотеля. Однако сильно делу это не помогало – потому что и античные философы знали, разумеется, далеко не всё.
И где-то в 17-м веке различные философы и ученые во главе с Фрэнсисом Бэконом, образно говоря, возопили – «Ну нельзя же так!». Ну нельзя познавать мир, исключительно толкуя древние знания и с переменным успехом пытаясь их применить к реальности. Надо действовать наоборот – посмотреть на реальность, изучить реальные факты, обобщить их, и уже из этих результатов строить науку. Полагая исключительно реальные факты, выясняемые на практике, критерием истины – а вовсе не авторитеты, какими бы древними они ни были.
Так, собственно, и появился научный метод, каким мы его знаем сегодня.
И суть его, как видим, потрясающе проста. Наблюдаем за реальными фактами – в живой природе или же в специально созданных экспериментах. Стараемся обнаружить определенные закономерности в этих фактах. Из этих закономерностей строим гипотезы и проверяем, насколько они позволяют предсказать новые факты, а также насколько совпадают с уже известными. И дальше либо выясняем, что гипотеза соответствует фактам – значит, она истинна. А не соответствует – значит ложна. Всё.
(Да, я в курсе, что существует множество тонкостей, я знаю про научную верификацию, фальсификацию, постпозитивизм, критерий Поппера и другие интересные вещи. Я опущу всю это в данной статье, потому что все эти идеи всего лишь уточняют основную мысль).
Ну хорошо, спросите вы, это всё очень интересно и, похоже, действительно работает в науке. А наша обычная жизнь-то тут при чем?
А при всем. Потому что ваша жизнь – это такая же часть реальности, как и любая другая часть реальности. А значит, с помощью научного метода ее прекрасно можно познавать.
Возьмем что-нибудь банальное, например, злость. Да-да, злость, эмоцию, а чем она собственно хуже гравитации или электричества? Давайте ее изучим.
Как можно изучать злость? Именно так, как я описал выше. В начале – собрать факты. То есть в каких случаях вы злитесь, когда злость усиливается, когда ослабляется, как долго длится. И многое, многое другое. Чем больше фактов – тем лучше. Их никогда не бывает слишком много.
А затем попробуем определить закономерности вашей злости. Посмотрим, от чего она зависит. От людей? От событий? От мыслей? От воспоминаний? От чего сильнее? От чего слабее? А что зависит от нее самой?
Определили? Прекрасно. Но это еще не все. Теперь проверьте то, что определили, на практике. Предположите, когда вы, согласно вашим гипотезам, должны или не должны разозлиться, и проверьте это. Так вы сможете понять, чем реальные причины вашей злости отличаются от надуманных.
Ну хорошо, узнали вы все это, а практическая польза-то какова? Да точно такая же она, как и в науке. Она заключается в том, что тем, что мы познали, мы можем управлять.
Когда-то люди не знали, от чего происходит молния. Ее приписывали богам. И пытались управлять молниями, молясь этим богам. Помогало как-то не очень.
Но потом люди, используя научный метод, познали законы электричества – и стали управлять молниями. Построили громоотводы, электрогенераторы, электромагниты и всё остальное. И работает все это? Более чем.
А значит, выяснив, например, законы работы злости – можно начать влиять на причины, вызывающие злость. И злиться меньше. Или больше. Это уж как вам удобнее. По сути, здесь наука переходит в инженерию – которая, кстати, тоже существует уже немало лет и прекрасно изучена.
И теперь я поясню, почему многие до сих пор живут как в средневековье. Да потому что они даже не пытаются применить научный метод к чему бы то ни было. Нет, люди поступают так, как до Бэкона – опираются на авторитеты, стереотипы, догмы, на различную устаревшую информацию. И пытаются, исходя из своих стереотипов, взаимодействовать с реальностью. Получается… ну, как с молниями и богами. С переменным успехом или вовсе без него.
Именно этим и объясняется то, почему многие советы, которые давали вам или давали вы, многие ваши убеждения, идеи, замыслы часто не работают так, как вы ожидали или не работают вообще. Почему вы так часто ощущаете разочарование и фрустрацию. Да просто потому, что вы предполагаете свои представления о реальности истиной, не проверив их на практике. Не применив к ним научный метод.
А если бы применили – то обнаружили бы, что огромное количество ваших текущих представлений о реальности попросту неверны. Они противоречат фактам, противоречат практике. И поэтому их надо попросту отбросить. И создать новые представления. Проверенные научным методом. Самым эффективным методом, который изобрело человечество за всю свою историю.
Это, на самом деле, совершенно удивительное ощущение – когда обнаруживаешь, насколько ты раньше заблуждался. Насколько слепо предполагал свои странные идеи, напрямую противоречащие фактам и опыту – единственно возможной реальностью. Насколько сильно считал свои убеждения абсолютной истиной – хотя наука прямо говорит нам о том, что никакие убеждения не могут претендовать на абсолютную истину. Никакие. Никогда. Можно говорить лишь об убеждениях, подтвержденных фактами. И лишь до тех пор, пока они подтверждаются. А если начнут опровергаться – от убеждений следует либо отказаться, либо ограничить область их применения.
И какое огромное любопытство, какой огромный интерес возникает в тот момент, когда понимаешь, что можно изучать всё! Ну то есть вообще – всё. Всё на свете. И больше никогда не будет скучно – потому что познание, похоже, бесконечно. И при этом ясно, как оно, познание это, делается.
То есть, любой человек, на самом деле, может научиться жить намного эффективнее, чем он сейчас живет. При этом ему даже не нужны какие-то тайные эзотерические знания – просто берешь готовый, отлаженный веками научный метод, и пользуешься. Тупо по аналогии. И результаты из него можно получить весьма быстро.
Поэтому – я крайне рекомендую всем людям на свете начать, наконец, изучать, как работает наука. И применять науку к своей собственной жизни. Ведь если с помощью науки человечество раскололо атом и полетело в космос, возможно, и вашу жизнь она может немного улучшить?
Источник
Практическое использование научного знания
Практическое использование научного знания: соотношение науки и техники. Рассмотрение вопроса о практическом использовании научного знания вводит нас в круг проблем, связанных с выяснением соотношения науки и техники, ибо техника представляет собой не что иное, как совокупность механизмов и машин, систем и средств управления, сбора, хранения и передачи энергии, информации в целях производства, исследования, т.е. все того, что находит свое применение в процессе практической деятельности человека. Именно в технике находят свое выражение практические результаты науки.
В современной философии техники выделяется несколько основных подходов к решению проблемы о соотношении науки и техники. Можно указать некоторые из них:
1) техника отождествляется с прикладной наукой;
2) процессы развития науки и техники рассматриваются как взаимосвязанные, но автономные процессы;
3) наука развивается, ориентируясь на развитие техники;
4) техника науки всегда опережает в своем развитии технику повседневной жизни;
5) до конца ХIХ в. регулярного применения научных знаний в технической практике не было, оно характерно только для современности1.
Проанализируем данные подходы более подробно.
Техника как прикладная наука. Первый подход составляет так называемую линейную модель. Суть содержания данной модели заключается в том, что техника рассматривается в качестве простого приложения науки или даже – как прикладная наука. Однако, как показали исследования, эта точка зрения представляет реальное положение дела слишком упрощенно и противоречиво. Так, если за наукой признать функцию производства знания, а за техникой его применение, то возникает вопрос – каким образом одно и то же сообщество ученых способно выполнять такие, столь разные, функции?
Как показывает рассмотрение конкретных примеров из истории науки, весьма сложно, а порой и просто невозможно, отделить практику от теории и, соответственно, науку от техники, науку от производства. Например, О. Майер, считая, что границы между наукой и техникой установлены произвольно, убедительно показал, что в термодинамике, аэродинамике, физике полупроводников, медицине и других научных дисциплинах невозможно отделить практику от теории, ибо они сплетены здесь в единый предмет.
История науки демонстрирует нам массу примеров того, сколь значительный вклад внесли ученые в развитие техники. В данном случае можно назвать имена Архимеда, Галилея, Кеплера, Гюйгенса, Декарта, Франклина, Лейбница, Гаусса, Кельвина и др. Они известны не только своими теоретическими изысканиями, открытиями законов и созданием теоретических концепций, но и своими изобретениями, практическими усовершенствованиями. Так, например, Р. Декарту принадлежит авторство разметки зрительных кресел в театре. Б. Франклин известен как изобретатель громоотвода, а Архимед своими таранами, баллистами и прочими изобретениями в области военной и иной техники.
С другой стороны, многие инженеры, изобретатели стали научными авторитетами (Леонардо да Винчи, Уатт, Карно и др.) Произвольность разделения на ученых и изобретателей в наибольшей степени проявляет себя в настоящее время, когда большинство ученых обращается к исследованиям, преследуя сугубо практические, технические цели. В то же время и инженеры осуществляют исследования явлений, которые не будут иметь технического применения в ближайшем будущем. Подобную черту, свойственную развитию современной науки и техники, отмечал в своей работе «Освоение достижений науки и техники» П.Л. Капица еще в 1965 году. В частности он писал, что в США «основная сумма затрат идет на ту науку, которая непосредственно служит для освоения промышленностью»2. Такое положение дела в еще большей степени характерно для современной науки, развивающейся в условиях конкурентной борьбы за предоставляемые со стороны общества материальные, финансовые и др. ресурсы.
На уровне социальной организации также отсутствует жесткое различение науки и техники. Научные и технические цели часто преследуются одними и теми же учеными, научными коллективами и институтами, с использованием одних и тех же методов и средств. Это позволило О. Майеру заявить, что не существует практически применяемого критерия для различения науки и техники.
Подобную позицию разделяет и другой известный исследователь истории науки Ст. Тулмин3. Он отрицает, что технику можно рассматривать как прикладную науку, ибо неясно само понятие «приложение». Так законы Кеплера можно рассматривать как специальное «приложение» теории Ньютона. Кроме того, между наукой и техникой существуют перекрестные связи и часто весьма сложно определить, где находится источник той или иной научной, либо технической идеи – в области техники или науки. На взаимоотношения науки и техники накладывает свой отпечаток и социо-культурная среда. Как отмечает Ст. Тулмин, в античной культуре «чистые» математика и физика развивались, не ориентируясь на приложение своих достижений в технике. В древнекитайском обществе, несмотря на достаточно более слабое развитие математических и физических теорий, ремесленная техника была весьма плодотворной. В конечном счете, техника и ремесло имеют гораздо более древнюю историю, чем естествознание. В продолжение нескольких тысячелетий ремесло, обработка металлов, врачебное искусство, землепашество и др. развивались вне всякой связи с наукой. Лишь в последнее столетие техника, промышленность и наука оказались сплетены друг с другом. Наука выступила в качестве катализатора революционных процессов, произошедших в технике и промышленности в продолжение ХХ века. Новое, более тесное партнерство техники и науки привело к ускорению решения многих технических проблем, ранее считавшихся неразрешимыми.
В силу этого, различие между наукой и техникой, рассматриваемое в линейной модели, представление технологии, техники как прикладной науки, траектория возникновения, которого обозначена последовательностью от научного знания к техническому изобретению, инновации, не отражает всей специфики взаимоотношений науки и техники.

Эволюционная модель развития науки и техники. Для второго подхода к рассмотрению соотношения, взаимосвязей науки и техники характерно исследование процессов их развития как автономных, не зависимых друг от друга, но в то же время имеющих определенную степень скоординированности между собой. Эта идея и составляет суть так называемой эволюционной модель.
Согласно эволюционной модели соотношение науки и техники устанавливается таким образом, что именно техника задает условия для выбора научных вариантов, а наука, в свою очередь, технических. В соответствии с данной моделью выделяется три взаимосвязанные, но самостоятельные сферы: наука, техника и производство (практическое использование). Внутри каждой из этих сфер идет эволюционный инновационный процесс. С точки зрения Ст. Тулмина – сторонника данной модели – эволюционный процесс развития науки связан с изменением совокупности теорий и понятий, которое является следствием концептуальной (дисциплинарной) и процедурно-детерминистской (профессиональной) неоднородности науки. Последнее обстоятельство обуславливает отсутствие единства науки как целого и определяет ее непрестанное развитие.
Подобная дисциплинарная модель применяется им и для исторического описания развития техники, но речь в данном случае идет не об эволюции теорий и понятий, а об эволюционном изменении инструкций, проектов, практических методов, приемов изготовления и т.д. Новая идея в технике, как и в науке, ведет часто к появлению совершенно новой технической дисциплины. Развитие техники происходит за счет отбора инноваций из запаса возможных технических вариантов. Но при этом, если отбор успешных вариантов в науке происходит с позиции внутренних профессиональных критериев, то в технике весьма часто важную роль играют не только собственно технические критерии отбора (эффективность, простота изготовления и др.), но и отсутствие негативных последствий, экономическая целесообразность и пр.
Так, например, в 1989-1990 гг. было остановлено строительство и эксплуатация многих атомных электростанций на территории СССР сугубо под воздействием антиядерной пропаганды. Но экономическая целесообразность вновь заставила возобновить строительство, и уже в 1993 г. был введен в действие 4-й реактор ВВЭР-1000 на Балаклавской АЭС, возобновились работы на Калининской и Курской АЭС, в 1995 г. вновь введена в эксплуатацию Армянская АЭС. Естественно, что их проекты были модифицированы4.
Кроме того, значительную роль играет фактор целевой ориентации инженеров и техников. Инженерные проекты могут иметь чисто коммерческие цели, а могут быть ориентированы на дальнейшее развитие науки. Важную роль в выборе цели исследовательской работы, в ускорении внедрения нововведения в технической сфере играют социально-экономические факторы, которые и ориентируют ученых на преследование тех или иных целей в процессе творческой деятельности.
По мнению Ст. Тулмина, для науки, техники и производства справедлива следующая схема эволюционных процессов:
1) создание новых вариантов (фаза мутаций), 2) создание новых вариантов для практического использования (фаза селекции), 3) распространение успешных вариантов внутри каждой сферы на более широкую сферу науки и техники (фаза диффузии и доминирования)5.
Аналогичную модель объяснения взаимодействия и эволюционного развития науки и техники выдвинул другой философ науки – С.Д. де Прайс. В своем исследовании он попытался разделить развитие науки и техники на основе различий в интенциях (направленности) и поведении ученого и техника. По мнению Прайса, для ученого конечным продуктом исследования является публикация статьи, а для техника таким продуктом может являться машина, лекарство, продукт или процесс определенного типа. В своем исследовании он опирался на модель роста публикаций в науке, исходя из которой, по аналогии пытался объяснить процесс развития в технике6.
Таким образом, можно отметить, что для эволюционной модели рассмотрения соотношения науки и техники характерен перенос модели динамики науки на объяснение развития техники. Но также очевидно, что подобный шаг требует дополнительного специального обоснования, ибо вследствие различия между научным знанием и техническим, необходимо учитывать особенность последнего. Простое наложение модели динамики науки на историческую траекторию развития техники без уточняющего содержательного анализа не может вполне адекватно раскрыть механизм развития техники в его взаимосвязи с наукой.
Наука как производная технического развития. В соответствии с третьим подходом в рассмотрении соотношения науки и техники указывается, что наука развивалась, ориентируясь на развитие технических аппаратов и инструментов.
Подобная точка зрения характерна для представителей марксизма. Как отмечал Ф. Энгельс, потребностями техники определяется развитие естествознания. Если у общества возникла техническая потребность, то она продвигает науку больше и быстрее, чем десяток университетов7. Осуществляется это движение за счет того, что, решая тот или иной технический вопрос на базе уже известных законов природы, человек открывает новые свойства вещей и этим двигает вперед естествознание8.
Позиция приверженцев данной точки зрения подтверждается достаточным количеством необходимых примеров, позволяющих с убедительностью ее проиллюстрировать. Так, одно из направлений в математике – линейное программирование – развитое в трудах Л.В. Канторовича – возникло на базе частных задач практики (оптимальный раскрой листовых материалов, организация перевозки грузов, наилучшее использование рабочего времени станков и др.)9.
Ярким представителем этого подхода является германский философ Г. Беме. В своих работах Г. Беме приводит массу примеров определяющего, на его взгляд, воздействия технических изобретений на развитие науки. Так теория магнита, созданная английским ученым В. Гильбертом, базировалась на использовании компаса, а возникновение термодинамики основывалось на техническом развитии парового двигателя. Подобная зависимость прослеживается и в случае с открытиями Галилея и Торичелли, в основе которых лежит длительный инженерный опыт постройки водяных насосов. Эти примеры позволили Г. Беме заключить, что техника не является итогом применения научных законов. Скорее, в технике идет речь о моделировании природы согласно предъявляемым со стороны общества функциям, чем о детерминирующем воздействии науки. И даже если это воздействие имеет место, то в равной степени можно заявить, что техника определяет развитие теоретического знания, ибо существует исходное единство науки и технологии, которое берет свое начало в эпохе Возрождения. Тогда механика выступила как наука, особенностью которой было исследование природы в технических условиях, в условиях эксперимента, с использованием технических моделей.
Утверждения Г. Беме имеют богатую эмпирическую основу. Действительно многие технические изобретения были осуществлены до возникновения экспериментального естествознания, до выдвижения какой-либо научной теории. Это и микроскоп, и телескоп, и масса архитектурных проектов, и лейденская банка, и громоотвод, и др. Отмечая эту взаимосвязь науки и техники, то значительное воздействие, которое оказывает прогресс техники на развитие науки, тем не менее, можно найти и массу примеров противоположного свойства. В наибольшей степени это характерно для современного состояния науки и техники. Здесь можно упомянуть о квантовой механике и теории относительности, которые определили дальнейший ход исследований в области ядерной энергии и ее практического использования. Это же касается теории лазеров, теории сверхпроводимости и др.
Наука как детерминанта развития техники. Четвертый подход построен на утверждении о превалировании влияния науки на технику, на утверждении, что техника науки (т.е. измерение и эксперимент) опережает технику повседневной жизни.
Придерживавшийся этой позиции французский философ А. Койре, в противоположность Г. Беме, оспаривал тезис о том, что наука Галилея была продуктом деятельности ремесленника или инженера. Он доказывал, что Галилей и Декарт не были представителями ремесленных или механических искусств и не создали ничего, кроме мыслительных конструкций.
Галилей был первым, кто создал действительно точные научные инструменты на основе физической теории – это были телескоп и маятник. При создании телескопа он исходил из оптической теории, стремясь сделать невидимое наблюдаемым. Математический расчет позволил ему достичь точности в наблюдениях и измерениях. Новая наука, у истоков которой стоял Галилей, посредством использования экспериментального метода, заменила расплывчатые понятия аристотелевской физики системой строго количественных понятий. Заслуга теоретиков и философов в том, что они заменили приблизительность оценок ремесленников при создании технических сооружений и машин на математическую точность, экспериментальную установленность и теоретическую обоснованность.
Помимо А. Койре, подобная точка зрения характерна и для целого ряда иных отечественных и зарубежных исследователей.
Крупный отечественный философ Б.М. Кедров, анализируя процесс развития научного знания, логику научного открытия, в частности отмечал, что к числу научных открытий следует относить не только обнаружение нового закона природы или общества, или мышления, создание новой теории, выдвижение новой гипотезы, но и изобретение новых приборов, инструментов и установок, новых методов и способов экспериментального исследования тех или иных объектов (процессов, вещей, явлений). В соответствии с этим, по его мнению, «будущая теория научного открытия должна показать, что на уровне непосредственного созерцания и эмпирического познания научное открытие выступает как установление нового факта на уровне абстрактно-теоретического мышления – как теоретическое обобщение и объяснение известных уже фактов и предсказание новых, — как открытие нового закона, создание новой теории, выработки нового понятия, выдвижение новой гипотезы; на уровне практической проверки и практического использования научного знания – как техническое изобретение, в частности, как создание новых приборов, инструментов, установок, устройств в целях осуществления опытного, экспериментального исследования»10.
Американский исследователь Л. Мэмфорд в своей работе «Техника и Цивилизация» высказывается еще более радикально. Он пишет, что инициатива изобретений исходила не от инженеров-изобретателей, а от ученых. В сущности, телеграф открыл Генри, а не Морзе; динамо-машину – Фарадей, а не Сименс; электромотор – Эрстед, а не Якоби; радиотелеграф – Максвелл и Герц, а не Маркони и Де Форест11. С точки зрения Мэмфорда, преобразование научных знаний в практические инструменты является простым эпизодом в процессе открытия. Именно из этого выросло новое явление – обдуманное и систематическое изобретение, которое получило свое развитие в целом ряде лабораторий, научно-исследовательских центрах Европы, Америки, Японии и т.д.
Но если взглянуть на исторические примеры изобретательской деятельности человека, на открытия, совершенные в результате длительной практической деятельности, то данная точка зрения не будет казаться столь убедительной. Изобретение самолета, парового двигателя, воздушного шара, велосипеда, подводной лодки, автомобиля и т.д. были осуществлены вне какого-либо очевидного детерминирующего воздействия со стороны научной теории, концепции и пр. Другой пример из области химии: семь металлов были известны людям с древнейших времен, благодаря наблюдательности, опыту в ремесленном производстве, изобретательности. Это золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и ртуть. Эти семь металлов принято называть доисторическими12. Кроме того, масса химических элементов стала известна людям, благодаря ремесленной практике в последующее время. Среди них: цинк (известен с Vв. до н.э.), мышьяк (известен с I в. н.э.), сера (известна со времени Ветхого завета) и др.13.
Именно это обстоятельство не позволяет говорить об абсолютной правильности той точки зрения, что техника науки всегда опережает технику повседневной жизни. Вместе с тем очевидно, что изобретательская работа тесно связана с систематическими научными исследованиями, но при этом не всегда технологические инновации могут являться результатом движения, начинающегося с научного открытия.
Взаимосвязь в развитии науки и техники. Особенности взаимодействия науки и техники на современном этапе. В настоящее время в философии науки начинает превалировать точка зрения, в соответствии с которой утверждается, что вплоть до конца ХIХ века регулярного применения научных знаний в технической практике не было. Эта связь характерна для современного состояния технических наук. Как отмечает Б.В. Марков, практика доиндустриального общества не требовала теоретического руководства и опиралась на навыки, традиции, орудия, которые передавались непосредственным путем14.
В течение ХIХ века отношения науки и техники развивались в направлении все большей «сциентификации» техники, но этот процесс не был односторонним. «Сциентификация» техники сопровождалась «технизацией» науки15.
Единство науки и техники, основание которому было положено научной революцией нового времени, стало очевидным только в ХХ веке, когда наука становится главным источником новых видов техники и технологии. Современная наука вторгается во все сферы жизнедеятельности, она учитывает все формы практики. Современный исследовательский процесс связан с технической реализацией и экономическим использованием проектов и преследует задачу дать возможность человеку – действующему субъекту – распоряжаться, управлять природными и социальными процессами. Если прежде практичность теории достигалась в ходе образования, которое внедряло науку в жизненный мир и в сознание личности, то сегодня абстрактные знания становятся практически значимыми, благодаря их применению для создания новых технологий, используемых в преобразовании стихийно развивающихся природных и социальных процессов16.
Однако если взглянуть на статистику наиболее значимых изобретений и технологий ХХ века, то можно отметить некоторые исключения, которые не совсем согласуются с идейным содержанием данного подхода. Так, по результатам опроса, проведенного отечественной «Независимой газетой», среди наиболее значимых технологий ХХ века было указано двадцать девять, среди них:
Источник