Как на самом деле снижают преступность
Как и здравоохранение, сфера охраны правопорядка преобразилась в последние десятилетия в результате использования количественных показателей. Здесь ставки тоже высоки: судьба городов в немалой мере определяется тем, как жители воспринимают их безопасность, а переизбрание мэров часто зависит от их способности контролировать преступность или снижать ее уровень. Когда публика и политики задумываются об общественной безопасности, их взоры обращаются к полиции, которую считают ответственной за уровень преступности. Впрочем, как и в случае здоровья и системы здравоохранения или образования и школьной системы, общественная безопасность лишь отчасти зависит от эффективности полиции. Она в определенной мере зависит от других составляющих судебной системы: прокуроров, судов, пенитенциарной системы и системы досрочного освобождения. В немалой степени она определяется склонностью местного населения к преступной деятельности, которая, в свою очередь, обусловлена более широким кругом экономических, этнических и культурных факторов. А еще общественная безопасность зависит от легкости совершения преступлений. Спад преступности в последние десятилетия стал результатом действий собственников имущества. Возможности угона автомобилей, краж со взломом и других преступлений радикально сократились вследствие мер защиты, принятых миллионами частных лиц, которые приобрели системы противоугонной сигнализации и охраны жилья. Кроме того, в американских охранных агентствах работает около миллиона человек.
Количество преступлений с применением насилия с начала 1990-х гг. в США снизилось. Заслуженно или нет, но в значительной мере это снижение объясняют изменениями в работе полиции. А главным изменением в ее работе является расширение использования количественных показателей, прежде всего в форме программы Compstat. Это пример, когда количественные показатели для внутреннего пользования оказались действительно полезными. Однако и здесь публичное раскрытие показателей для подкрепления репутации политиков и полицейского руководства создало стимулы для игры и подгонки данных, а также для контрпродуктивного отвлечения сил и средств.
Compstat (компьютерная статистика) — это система анализа и учета преступлений. Ее разработали в полицейском управлении Нью-Йорка в 1994 г., когда управление возглавлял Уильям Брэттон. Она использует геоинформационную систему для отслеживания мест совершения преступлений. Compstat собирает, анализирует и фиксирует данные о преступлениях на картах, чтобы создавать полные картины преступлений, а также дает информацию для еженедельных заседаний, где полицейские руководители отчитываются о результатах работы своих отделений. Данные используют для выявления мест концентрации преступности и соответствующего распределения сил полиции. За прошедшие с момента появления этой системы десятилетия она вышла за пределы Нью-Йорка, ее аналоги действуют во многих крупных городах Америки. Система Compstat способствовала снижению не только количества зарегистрированных преступлений, но и самой преступности.
И все же в одном городе за другим возникают вопросы по точности и достоверности статистических данных о преступности. Compstat как справочно-информационная система действительно полезна. Но, когда мэры оказывают давление на полицейское руководство и требуют продемонстрировать снижение преступности (и это давление спускается на уровень начальников полицейских участков, продвижение которых по службе зависит от устойчивого снижения преступности), рядовые сотрудники полиции начинают считать, что их ждет взыскание за рост количества зарегистрированных преступлений, что создает стимул для манипулирования цифрами.
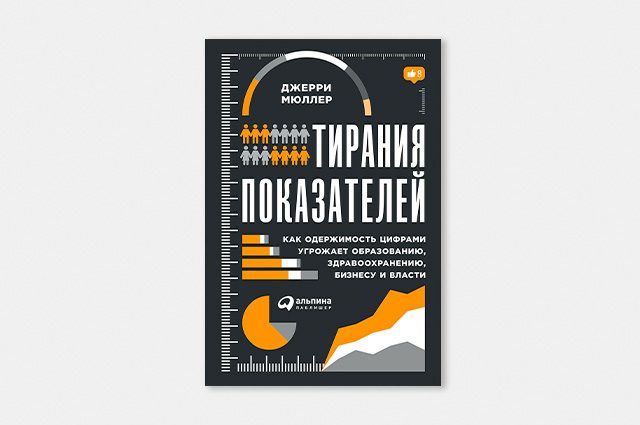
Подобные проблемы возникали до появления Compstat и существовали независимо от нее. В 1976 г. социопсихолог Дональд Кэмпбелл (создатель закона Кэмпбелла, см. главу 1) заметил, что главным результатом провозглашенного президентом Ричардом Никсоном наступления на преступность «стало искажение показателей уровня преступности путем занижения количества зарегистрированных преступлений и переквалификации преступлений в разряд менее тяжких». Эта картина не меняется. Самый известный показатель — индекс из сводного отчета о преступности, публикуемого ФБР. Отчет опирается на материалы, присланные из всех городов, и обобщает данные о четырех основных преступлениях с применением насилия (убийства, изнасилования, физическое насилие с отягчающими обстоятельствами и грабежи) и о четырех тяжких преступлений против собственности (ограбления со взломом, кражи, угон транспортных средств и поджоги). Менее тяжкие преступления не включаются в индекс, который широко разрекламирован и считается аналогом карты отчетности. Когда уровень преступности снижается, выборные должностные лица поздравляют себя с успехом, а когда повышается, на политиков обрушиваются с критикой их соперники. Политики, со своей стороны, давят на полицейское начальство, требуя снизить уровень преступности, а полицейское начальство давит на подчиненных.
Все это создает огромный соблазн продемонстрировать прогресс с помощью манипулирования цифрами. Как объяснил один чикагский детектив, «ведь это так легко, так просто». Во-первых, сотрудник полиции, отвечающий на звонок потерпевшего, может умышленно неправильно классифицировать преступление и зарегистрировать его как менее тяжкое. Проникновение в жилище со взломом превращается в «незаконное проникновение в чужое жилище», взлом гаража становится «причинением ущерба имуществу», а кража превращается в «утрату имущества».
В каждом из этих случаев серьезное преступление становится мелким, не попадающим в сводный отчет ФБР о преступности. Соблазн преуменьшить тяжесть преступлений достаточно велик для того, чтобы полицейское управление Нью-Йорка выделяло значительные ресурсы на проверку полученных отчетов и на наказание сотрудников, уличенных в искажении данных. Но не каждое городское управление полиции обладает ресурсами (и желанием) для создания подразделений, занимающихся проверкой отчетности.
Эта проблема не ограничивается США. В Лондоне (Англия) управление мэра по вопросам охраны правопорядка и преступности поставило задачу снизить преступность на 20%. Этот целевой показатель пошел вниз по инстанциям — от начальника полиции к констеблям, несущим службу на улицах. Их продвижение по службе зависело от достижения цели. В 2013 г. информатор из лондонской полиции сообщил парламентской комиссии о том, что манипулирование статистическими данными стало «укоренившейся частью полицейской культуры»: серьезные преступления вроде грабежей классифицировали как воровство, а об изнасилованиях старались не сообщать, чтобы достичь целевых показателей. Как сказал отставной старший суперинтендант уголовной полиции, «когда целевые» показатели спускают из мэрии, например из управления мэра по вопросам охраны правопорядка и преступности, там хотят сократить число жертв на 20%. Старшие офицеры воспринимают это как указание регистрировать на 20% меньше преступлений». О занижении количества зарегистрированных преступлений и преуменьшении тяжести преступлений «знают на всех уровнях каждого полицейского участка в Англии и Уэльсе», добавил он. Эксперты называли разные приемы улучшения показателей результативности: от отказа верить сообщениям о преступлениях и регистрации нескольких инцидентов в одном районе как один до занижения тяжести совершенных преступлений.
Есть и другой, еще более сильный соблазн. Он связан с дополнительным ключевым показателем успешности работы полиции — статистикой арестов. Эд Бернс, бывший детектив балтиморской полиции, служивший в отделах по борьбе с наркотиками и убийств (он более известен как один из создателей телесериала «Прослушка»), описал процесс «приукрашивания статистики», с помощью которого полицейские начальники могут добиваться внешне впечатляющих результатов. Как детектив отдела по борьбе с наркотиками, Бернс педантично выстраивал дело против наркобаронов. Но руководству это было не нужно, поскольку отнимало много ресурсов и могло занять годы. Оно хотело видеть рост числа задержаний, улучшение показателей. Ежедневное задержание пяти подростков, продававших наркотики на улице, улучшало статистику сильнее, чем арест крупного наркодилера после многолетнего расследования. С точки зрения полицейского начальства (и политиков, перед которыми оно отчитывалось), все аресты были равноценными. Действия, приносившие наилучшие показатели результативности, почти не снижали оборот наркотиков. Когда все меры имеют равный вес, возникает соблазн пойти по самому легкому пути. В Великобритании процесс направления ресурсов полиции на легко раскрываемые преступления для улучшения показателей раскрываемости называют «перекос».
Итак, в охране правопорядка количественные показатели полезны. Но попытка использовать их в качестве основы для вознаграждения и наказания приводит к менее надежным результатам и может быть даже контрпродуктивной.
Источник
Как предотвратить рецидивы преступлений
Убийство девятилетней Елизаветы Киселевой по дороге в школу в Саратове потрясло Россию. Вслед за горожанами, желающими самосуда, политики заговорили об отмене моратория на смертную казнь. Заявления такого рода от политиков сложно расценивать иначе как популизм. Гораздо полезнее обсудить политические и организационные решения, которые могли бы предотвратить такие случаи.
Криминология пока не может предоставить бесспорных доказательств эффективности смертной казни как меры предотвращения тяжких насильственных преступлений. Тяжкие преступления – это в основном спонтанные события. Преступник не ведет себя в таких случаях рационально, а значит, он не успевает подумать о последствиях. Помимо прочего смертная казнь – это дорогостоящий способ наказания. Сюда включается множество дополнительных издержек – в частности, затраты на оспаривание решения суда и иные процессуальные гарантии. Не стоит забывать, что даже при наличии возможности пересмотра дела мы не можем полностью исключить судебную ошибку.
Что касается рецидивной преступности (обвиняемый в убийстве девочки был судим), обзор исследований говорит, что строгие санкции не снижают риск повторных преступлений, который может даже увеличиваться при более строгих наказаниях, например тюремном сроке, в сравнении с менее строгими, например пробацией. Также уровень рецидивизма не снижается при увеличении сроков наказания.
Саратовские власти уже объявили о проверке безопасности школ и подходов к ним. Для этого предлагается создать специальные комиссии из представителей полиции и администрации школ. Почему этого не было сделано в рамках уже имеющегося взаимодействия полиции и работников образования в ходе работы тех же комиссий по делам несовершеннолетних и регулярных совместных рейдов?
Меры административного надзора за обвиняемым в убийстве девочки в данном случае также не имели особого успеха. Он имел непогашенную судимость, а это означает, что представители двух федеральных ведомств – ФСИН и МВД – должны были взаимодействовать с ним на регулярной основе.
Для контроля за освободившимися условно-досрочно (УДО) среди участковых уполномоченных полиции на уровне районного отдела полиции обычно выделяется специализированная позиция. Работа состоит в том, чтобы заблаговременно связаться с представителями ФСИН по всем случаям УДО, помочь собрать материал о месте проживания бывшего осужденного и перспективах трудоустройства. Представитель МВД, так же как представитель инспекции ФСИН, практически не занят повседневным контролем, а выполняет большой объем именно бумажной работы – оформляет дела, ведет переписку – и в лучшем случае встречается с бывшим осужденным раз в год.
Деятельный контроль за бывшими заключенными осуществляют обычные участковые «на земле». Они должны мониторить условия жизни тех, кто вышел по УДО, так же как и других поставленных на учет граждан, в ходе обходов по месту жительства. В этом и есть смысл профилактической работы участкового – держать контакт с подучетными, вовремя выявлять проблемы. На практике же в подавляющем большинстве случаев это формальность: люди приходят в опорный пункт полиции отмечаться или просто звонят по телефону. Сам участковый редко посещает место жительства контролируемого лица. Дело в том, что участковый завален другой работой, связанной с раскрытием преступлений или оформлением многочисленных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел либо какой-то иной бумажной отчетностью. На действенные профилактические обходы подучетных времени у него не остается.
А в отношении некоторых групп людей участковый не сможет осуществить полноценный мониторинг, даже если будет посещать их исправно. Так, люди, которые официально признаны медицинской системой психически нездоровыми и социально опасными, должны посещаться участковым не менее двух раз в год. Специальной психологической или медицинской подготовки участковые не получают, и потому если и осуществляют проверки, то формально.
Комплексного подхода к реабилитации лиц, вышедших из мест лишения свободы, не имеют и социальные службы. После освобождения многие бывшие осужденные сталкиваются с проблемами отсутствия жилья и каких-либо сбережений. Не существует системного учета потребностей освобождающихся граждан в социальной поддержке. В России отсутствует единая служба пробации, которая бы оказывала социальную поддержку осужденным. Региональные ГУФСИН и УФСИН сотрудничают с центрами занятости, социальной адаптации и другими органами социальной поддержки, а также с НКО, но их ресурсов не хватает, чтобы помочь всем.
Для работы с бывшими осужденными есть две основные опции: пробация и реабилитационные программы. Реабилитация включает в себя лекции, групповую и индивидуальную психотерапию. Пробация может включать в себя реабилитацию, но она также подразумевает наличие санкций – например, дополнительные штрафы, необходимость отмечаться, посещения инспектора. Реабилитационные программы направлены на развитие чувства ответственности, навыков самоконтроля и прогнозирования последствий противоправного поведения, работу с наркотической и алкогольной зависимостью. В мировой практике существует множество техник такой работы: когнитивно-поведенческая терапия, моделирование, ролевые игры и т. д.
Обзор исследований показал, что реабилитационные программы ведут к уменьшению рецидивизма не меньше чем на 10%. В среднем такие программы сокращают уровень рецидивизма на 20%, что больше среднего эффекта от различных санкций, к которым относятся лишение свободы и УДО с сопровождением.
Такие программы дороги. Поэтому в первую очередь участвовать в них следует лицам с высокой вероятностью совершения нового преступления. Помимо стабильно высокого и стабильно низкого существует динамический риск-фактор, который при определенных обстоятельствах может быть снижен. К динамическим риск-факторам относятся наркотическая и алкогольная зависимость, так как людям, страдающим от этих заболеваний, можно помочь войти в ремиссию.
Предотвратили бы реабилитационные программы трагедию в Саратове? Даже развитым странам с системами пробации и широким выбором реабилитационных программ не удалось справиться с повторной преступностью. А спонтанная насильственная преступность, как убийство девочки, – это сложно прогнозируемое и неконтролируемое явление.
Применяемые сейчас меры профилактики рецидивной преступности в России работают слабо, а репрессивный подход – ужесточение наказания – не влияет на нее вовсе. Необходимо переосмыслять подход к профилактике. Отрадно, что саратовские власти стремятся решить проблему через уменьшение рисков, связанных с городской средой. Нужно не забыть и про более сложные и комплексные решения по работе с бывшими заключенными.
Авторы — младший научный сотрудник и научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Источник




