ТЕОРИИ СТАДИАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Проблема стадиальности развития языка и мышления, как известно, была затронута (хотя осторожно, с оговорками), В. Гумбольдтом и
A. Шлейхером. Поиск ступеней, или стадий, велся В. Гумбольдтом на
основе анализа выделенных А. Шлейхером морфологических типов
языков — аморфных, агглютинативных и флективных (1, с. 244 и ел.).
В своем поиске В. Гумбольдт задавался целью выяснить: как эти разные
по своим типологическим признакам языки выполняют потребности
выражения духа народов, их мышления; какие из этих языков и в какой
степени способствуют этому выражению наиболее полно и свободно.
Такой язык, по Гумбольдту, необязательно должен быть поздним по
времени своего образования. Сравнивая три названные группы языков,
B. Гумбольдт отмечал отсутствие «чистых» типов, существование пе
реходных языков, а также недостаточную изученность их в типологи
ческом отношении. Все это заставило В. Гумбольдта весьма осторожно
говорить о стадиальности развития языка и мышления.
К сожалению, вне поля зрения языковедов практически осталась концепция Потебни о стадиальности языка и мышления. Между тем взгляды Потебни на эту проблему, по нашему убеждению, заслуживают глубокого внимания.
Согласно Потебне, речевая деятельность человека имеет принци-
4 я-45 97
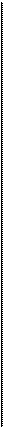 |
пиально творческий характер. Язык всегда находится между познанным и вновь познаваемым. Именно в акте отражения и познания нового явления конкретно реализуются познавательные возможности языка и мышления. И в этом непрерывном языковом процессе Потебня выделяет ступени, или стадии, опираясь прежде всего на генетический и функциональный анализ слова как узловой единицы языка. Потебня полагает, что слово, эволюционируя и видоизменяясь, всегда оставалось доминирующей единицей на всех этапах исторического развития языка. В своем анализе Потебня привлекает и другие языковые образования — предложения, фразеологизмы, пословицы, различные произведения народного творчества (басни, песни, загадки), литературы, науки.
Основными формами языковой мысли, могущими выражать различное содержание, являются, по Потебне, образ и понятие (или идея), которые мы наблюдаем в языке на всю историческую глубину, доступную исследованию. Словесный образ представляет собой логически нерасчлененное мыслительное образование, с помощью которого на основе познанного представляется и отражается вновь познаваемое. Словесный образ выступает в слове в виде внутренней формы слова, благодаря которой представляется обозначаемый словом предмет и создается тем самым функциональное значение слова. Действительное познание совершается в содержательном соотношении образа и создаваемого с его помощью значения.
Сравнение двух величин в мысли, переход от образа к значению есть всегда акт познания, и именно в нем проявляются познавательные возможности и способности нашего мышления, которые исторически изменчивы. Переход от образа к значению будет различным в зависимости от господствующего способа мышления. Потебня выделяет три способа и соответственно стадии развития языка и мышления, а именно: мифическое мышление, поэтическое и прозаическое или научное.
Исходным способом мышления Потебня называет мифическое. По сравнению с последующими способами, оно характеризуется меньшими запасами мысли и меньшей способностью к отвлечению. Это мышление необходимо, оно свойственно всем людям, стоящим на известной ступени развития мысли, может включать любое содержание и в этом смысле формально. Мифическое мышление, как и последующее поэтическое, «кроется в первозданном слове» (9, с. 589). В мифическом мышлении образ и значение близки или тождественны. Именно поэтому цри мифическом мышлении человек склонен считать, что объективно существующее слово и есть сущность обозначаемой вещи. Троп, образ в мифическом мышлении близки или тождественны значению. Для поэтического же мышления троп есть всегда скачок от образа к значению; и говорящий осознает разницу между значением 98
и образом, который выступает лишь как «смысловой знак» функционального значения, отдельным признаком или представлением значения, содержащего множество признаков. Поэтический способ мышления так же необходимо переходит в прозаический или научный способ. Образ и значение можно рассматривать как две части, две половины суждения; при мифическом мышлении они более сходны между собой, чем при поэтическом. «Их различие ведет от мифа к поэзии, от поэзии к прозе и науке» (9, с. 587). Прозаическое мышление характеризуется отсутствием образа, анализом и критикой, призванными отразить сущность обозначаемого.
Говоря об отношении сознания человека к образу и значению, заключенным в слове, Потебня следующим образом характеризует способы мышления: «. Сознание может относиться к образу двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах обозначаемого; 2) или так, что образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит. Первый способ называется мифический (а произведения его — мифами в широком смысле), а второй — собственно поэтический. Этот второй состоит в различении относительно субъективного содержания мысли. Он выделяет научное мышление, тогда как при господстве первого собственно научное мышление невозможно» (10, с. 420—421).
Способы мышления не отделены друг от друга, а исподволь вырастают один из другого, сосуществуя исторически длительное время. Только постепенно эволюционируя, один тип мышления начинает переобладать над другим, полностью, однако, его не исключая. Изменения способов мышления настолько медленны, «что вряд ли могут быть замечены в короткие периоды, более или менее нам известные» (10, с. 437). Не исключен мифический способ мышления и в наше время, поскольку субъективность присуща человеческому познанию. Объективность, т. е. «согласие мысли с ее предметом», является целью познавательных усилий человека. Но к этой цели человек приближается субъективным путем языка. «. Следы прежних ступеней развития, разделяясь, не изглаживаются, а углубляются» (10, с. 369).

Можно сказать, что своеобразие ступеней развития мышления и языка выступает в разном соотношении субъективного и объективного в языке. Конкретно в языке, а также и в произведениях словесности это выражается в различном соотношении внутренней формы языковых единиц и их значений; во взаимоотношениях субъекта и предиката; в формировании грамматических систем языка, точнее,— в выборе семантического основания грамматических классификаций и образовании в итоге грамматических значений; в соотношении образов или системы образов произведений словесности и выражаемых с их помощью идей и др. Иными словами, ступени развития мышления и
языка охватывают не только собственно язык, но и все формы словесного творчества. Именно поэтому слово является зародышем поэзии и прозы, по терминологии Потебни, или — образного, художественного и научного творчества. Генетически все они восходят к слову.
В отечественном языкознании известна концепция стадиальности развития языка и мышления, связанная с так называемым «новым учением о языке», которое активно разрабатывали в 20—40-е годы Н.Я. Марр и его последователи. Согласно этому учению, все языки мира участвуют в едином глоттогоническом (языкотворческом) процессе. Для доисторического развития человека характерен ручной язык («кинетическая речь»). Историческому времени развития человека свойствен звуковой язык, проходящий различные стадии, которые отражают состояния мышления, общественной и производственной практики человека. Этим стадиям соответствуют определенные типы языков. Н.Я. Марр выделяет три такие стадии и соответственно три типа языков, которые совпадают с морфологическими типами языков А. Шлейхера (корневые, агглютинативные и флективные языки). Последняя стадия объявляется наиболее развитой, которой соответствует современное общество с развитыми производственными отношениями, классовой структурой и пр.
Стадии развития языка суть стадии развития мышления. Корневым (аморфным) языкам соответствует синкретический способ мышления, характеризующийся конкретностью, образностью, малой абстрактностью; эта форма мышления свойственна начальным этапам истории человечества, «первобытному коммунизму». Агглютинативные языки соответствуют аналитическому или формально-логическому мышлению, при котором наблюдается расщепление образности, цельности восприятия на составные части; усложняется грамматическая система (выделяются, например, единственное и множественное число и др.). В общественной жизни этот этап отличается появлением частной собственности, классов и соответственно классового мышления. Аналитическое мышление есть мышление классовое. На смену аналитическому мышлению приходит диалектико-материалистическое мышление пролетариата, это свойственно последним фазам развития языков (флективные языки). Для этого мышления нет смены, оно, по Марру, имеет неограниченные возможности развития вширь и вглубь, в пространстве и во времени. Такое мышление в конечном итоге не ограничивается звуковой, линейной речью, перерастает ее, используя новейшие достижения науки и техники. По Марру, единый процесс развития языка и мышления отражает единый процесс развития человеческого общества, открытый классиками марксизма-ленинизма.
Вульгарносоциологическая и антиисторическая сущность теории стадиального развития языка и мышления Н.Я. Марра очевидна, она была отвергнута в 50-е годы после дискуссии по языкознанию. 100
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Источник
Теория языкознания (стр. 8 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Способы мышления не отделены друг от друга, а исподволь вырастают один из другого, сосуществуя исторически длительное время. Только постепенно эволюционируя, один тип мышления начинает переобладать над другим, полностью, однако, его не исключая. Изменения способов мышления настолько медленны, «что вряд ли могут быть замечены в короткие периоды, более или менее нам известные» (10, с. 437). Не исключен мифический способ мышления и в наше время, поскольку субъективность присуща человеческому познанию. Объективность, т. е. «согласие мысли с ее предметом», является целью познавательных усилий человека. Но к этой цели человек приближается субъективным путем языка. «. Следы прежних ступеней развития, разделяясь, не изглаживаются, а углубляются» (10, с. 369).
Можно сказать, что своеобразие ступеней развития мышления и языка выступает в разном соотношении субъективного и объективного в языке. Конкретно в языке, а также и в произведениях словесности это выражается в различном соотношении внутренней формы языковых единиц и их значений; во взаимоотношениях субъекта и предиката; в формировании грамматических систем языка, точнее,— в выборе семантического основания грамматических классификаций и образовании в итоге грамматических значений; в соотношении образов или системы образов произведений словесности и выражаемых с их помощью идей и др. Иными словами, ступени развития мышления и
языка охватывают не только собственно язык, но и все формы словесного творчества. Именно поэтому слово является зародышем поэзии и прозы, по терминологии Потебни, или — образного, художественного и научного творчества. Генетически все они восходят к слову.
В отечественном языкознании известна концепция стадиальности развития языка и мышления, связанная с так называемым «новым учением о языке», которое активно разрабатывали в 20—40-е годы и его последователи. Согласно этому учению, все языки мира участвуют в едином глоттогоническом (языкотворческом) процессе. Для доисторического развития человека характерен ручной язык («кинетическая речь»). Историческому времени развития человека свойствен звуковой язык, проходящий различные стадии, которые отражают состояния мышления, общественной и производственной практики человека. Этим стадиям соответствуют определенные типы языков. выделяет три такие стадии и соответственно три типа языков, которые совпадают с морфологическими типами языков А. Шлейхера (корневые, агглютинативные и флективные языки). Последняя стадия объявляется наиболее развитой, которой соответствует современное общество с развитыми производственными отношениями, классовой структурой и пр.
Стадии развития языка суть стадии развития мышления. Корневым (аморфным) языкам соответствует синкретический способ мышления, характеризующийся конкретностью, образностью, малой абстрактностью; эта форма мышления свойственна начальным этапам истории человечества, «первобытному коммунизму». Агглютинативные языки соответствуют аналитическому или формально-логическому мышлению, при котором наблюдается расщепление образности, цельности восприятия на составные части; усложняется грамматическая система (выделяются, например, единственное и множественное число и др.). В общественной жизни этот этап отличается появлением частной собственности, классов и соответственно классового мышления. Аналитическое мышление есть мышление классовое. На смену аналитическому мышлению приходит диалектико-материалистическое мышление пролетариата, это свойственно последним фазам развития языков (флективные языки). Для этого мышления нет смены, оно, по Марру, имеет неограниченные возможности развития вширь и вглубь, в пространстве и во времени. Такое мышление в конечном итоге не ограничивается звуковой, линейной речью, перерастает ее, используя новейшие достижения науки и техники. По Марру, единый процесс развития языка и мышления отражает единый процесс развития человеческого общества, открытый классиками марксизма-ленинизма.
Вульгарносоциологическая и антиисторическая сущность теории стадиального развития языка и мышления очевидна, она была отвергнута в 50-е годы после дискуссии по языкознанию. 100
Приведенные выше суждения В. Гумбольдта и Ш. Балли о «парадоксальном» характере существования и изменения языка не учитывают форму изменения языка в его непосредственном применении, в синхронии. Эта форма отлична от того, что наблюдается в диахронии. Говорящий непосредственно в момент речи и наблюдения за речью не замечает каких-либо изменений, эволюции языка. Но в подобных условиях он непосредственно не замечает изменений и во многих предметах и явлениях живой и неживой природы, например роста растений или живых существ и др. Но это не значит, что в них не протекают изменения вообще. Известно, что далеко не всегда непосредственная верификация явлений и процессов действительности может служить критерием истинности. Человек непосредственно не наблюдает, что Земля круглая, что вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода и многое другое. Однако истинность этих фактов объективно доказана специальными опытами, человеческой практикой. Поэтому формула изменений языка В. Гумбольдта и Ш. Балли неточна.
Каждая вещь, каждое действительное явление, в силу своей особенной природы, имеет свою форму изменения как постоянно совершающегося процесса. Имеет такую свойственную ему форму изменения и язык. Его форма изменения такова, что она не нарушает процесса общения, а потому для говорящего в момент общения язык представляется неизменным. Но в то же время очевидно, что именно в процессе общения и могут происходить изменения. Нефун-кционирующий язык мертв, он не изменяется, не развивается.
Синхронии, т. е. непосредственному функционированию языка в речи, свойственна такая форма языковых изменений, которая не влияет на взаимопонимание говорящих, не нарушает процесса обмена мыслями. Е. Косериу тонко заметил, что в синхронии, с функциональной точки зрения, изменения «проявляются в наличии внутри одного и того же типа речи факультативных вариантов и изофункциональных элементов» (11, с. 220). Изменения, по Е. Косериу, готовятся в языке «исподволь без нарушения действующих в языке функций языковых единиц. Задолго до выпадения какого-либо элемента из системы в норме языка уже существуют те элементы, которые возьмут на себя функцию выпавшего элемента» (11, с. 228). Развивая эти мысли на основе наблюдений, Е. Косериу замечает далее: «. В языке в течение длительного времени сосуществует старое и новое — не только экстенсивно, но и интенсивно (в форме «вариантов и «изофункциональных элементов»). В системе не появляется ничего такого, что до этого не существовало бы в норме, и, наоборот, ничто не исчезает из функци-
ональной системы иначе, как путем длительного отбора, осуществляемого нормой» (11, с. 229).
Для изменяющейся, развивающейся системы само изменение того или иного ее элемента не есть отдельный акт, однократная замена одного элемента другим, а функционально длительный процесс замещения одного элемента другим. Эволюция языковых явлений включает преемственность. Чтобы замещать что-то, надо быть в известной степени таким же. Но поскольку каждая единица имеет свою особую историю, определенную формальную, семантическую структуру, общим словом,— свою природу, то в силу этого замещающая единица не может быть абсолютно тождественной замещаемой. Эти две особенности эволюционно изменяющихся языковых единиц — тождество и отличия в пределах этого тождества — оказываются функционально необходимыми. Поэтому параллельные единицы на том или другом уровне могут сосуществовать исторически долгое время. В этом заключается одна из главных внутренних причин возникновения на всех уровнях языка вариантности, синонимии, различных видов ассимиляции и др., т. е. процессов, свойственных изменяющейся, развивающейся системе.
Такая форма изменения языка обусловлена особенным характером существования и функционирования языка. Одним из признаков, обусловливающих такую форму изменения и развития языка, кроме вышесказанного, является непрерывность языка. Ф. Со-ссюр считает ее «первейшим свойством или первейшим законом передачи человеческой речи, причем независимо от того, какие происходят вокруг языка всякого рода перевороты и потрясения, могущие полностью изменить условия его существования. Нигде никогда не наблюдаются разрывы в непрерывной нити языка, и невозможно логически и apriori представить себе чтобы такой разрыв мог где-либо и когда-либо произойти» (12, с. 42).
Время показывает результаты и динамику изменений, происходящих в синхронии; чем длительнее отрезки времени, тем явственнее обнаруживаются изменения в языке. Изменяющиеся во времени языковые факты служат мерой изменения языка. Они становятся очевидными и не для специалиста. В языке, подчеркивал Потебня, нет ни одной неподвижной категории.
Некоторые лингвисты считают, что реальный язык изменяется в своем конкретном применении; в то же время как инвариант он остается неизменным (11, с. 143). Именно неизменяемость языка как инварианта, по мнению Е. Косериу, обеспечивает общение в синхронии. С этим положением, однако, трудно согласиться. Изофункцио-нальные единицы в своем непосредственном применении и взаимодействии не могут не затронуть язык как инвариант, поскольку сам инвариант реализуется в вариантах; и движение последних и их расхождение не может не касаться его. Сравнивая в диахронии различ-
ные временные срезы языка, мы отмечаем не речевые изменения, а те, которые затронули язык как общее, как инвариант, отмечая вместе с тем и тождество языка в этих двух его временных плоскостях.
Изложенная здесь форма изменения языка позволяет по-другому представить такие явления языка, как вариантность, синонимия, ассимиляции единиц на различных уровнях и др. В свете сказанного ряды вариантов, синонимов — это узлы изменения и перемещения единиц языка — фонем, различного типа аффиксов, слов, синтаксических конструкций. Весьма важной представляется роль таких рядов тождественных и изофункциональных единиц, и прежде всего двусторонних, в исторической перспективе. В таком ряду происходит ассимиляция общей — лексической, грамматической или словообразовательной — абстракции всеми членами ряда. Следовательно, если смотреть с точки зрения диахронии (в ряд входят единицы с различными потенциями развития), сохраняется и передается в эстафете единиц языка выработанная в нем абстракция. Таким образом, ценность таких явлений, как вариативность, синонимия, ассимиляция, не только в тех функциях, какие они непосредственно выполняют в речи, но и в сохранении и развитии продуктов мышления.
Соссюра и других лингвистов, что синхронии не свойственны какие-либо изменения, оставляет открытым вопрос: откуда же возникают в диахронии изменения, если синхрония пребывает в совершенном покое? Исторический отрезок, за который произошли в языке определенные изменения, мы можем представить в виде ряда последовательных синхронных срезов, не могущих, по мнению таких авторов, иметь изменений. Логического объяснения появления изменений в языке в этом случае получить невозможно.
Е. Косериу различает изменение и инновацию (11, с. 255 и ел.). Изменение — это продукт эволюции языка как системы систем; оно предполагает преемственность и расхождение. Изменения тех или других элементов языка, образующих в общей структуре языка отдельные подсистемы, имеют частные причины, что, разумеется, не исключает сложных их связей и опосредовании с целостной системой языка (см. выше).
Инновации имеют индивидуальную природу, обладают частными, окказиональными функциями и значениями, хотя и создаются из элементов общего языка. Инновация может стать общеязыковым фактом в том случае, если отвечает потребностям говорящего коллектива, тенденциям развития языка. Инновация возникает не как объективная внутренняя потребность системы языка, поэтому она не предполагает преемственности и расхождения в эцолюции языка с соответствующими единицами того же порядка (ср.: авторские неологизмы, индивидуальная образность, крылатые выражения, необычная индивидуальная сочетаемость слов и обнаруживающиеся в итоге особенные смыслы слов и др.).
Вопрос об инновациях имеет отношение к сложной и неоднозначной проблеме о субъективном влиянии на язык, на его изменение и эволюцию (см. ниже).
Мы указали на форму изменения языка в его синхронном функционировании. Однако этим самым мы еще не определили сам источник или причины изменения языка. В самом общем виде мы можем сказать, что источником изменения языка является внутреннее диалектическое противоречие между формой и содержанием языка. Импульсы изменения и развития языка, и прежде всего внутренней его структуры, содержатся в самих актах выражения мысли с помощью языка, поскольку такое выражение мысли есть одновременно акт ее создания; причем, как подчеркивал Потебня, это внутренний спонтанно-творческий акт. В самом факте функционирования языка заложены определяющие причины его изменения и развития, а тем самым развертывания исторически заложенных в нем, присущих ему качеств. Сохранение единства и тождества языка при всех социальных потрясениях, революциях, сменах общественных формаций и государственного строя и пр. свидетельствует о том, что язык — явление особое, самостоятельное, имеющее свои внутренние законы и стимулы развития.
Высказанное положение об источнике изменения и развития языка получает объяснение в концепции Потебни о форме и содержании языка (см. ниже). В качестве элементов формы Потебня выделяет внешнюю форму, т. е. звук, обработанный, сформированный мыслью, и «внутриязыковое содержание», выступающее формою, в какую облекается так называемое «внеязычное содержание». «Внутриязыковое содержание» закреплено в значениях слов, которыми говорящие владеют в отвлечении от конкретных их применений. С помощью внутриязыковых значений (или содержания) говорящие организуют, препарируют «внеязычное содержание». Всякий раз говорящий стоит перед необходимостью преобразовывать «внеязычное содержание», т. е. нерасчлененную мысль, образованную под воздействием внешних и внутренних факторов, и выражать ее, в соответствии с конкретными задачами общения, в строгих языковых формах. Это преобразование нерасчлененной мысли в языковую форму и ее выражение вовне — необходимо творческий акт, протекающий в одних (типовых) условиях автоматически, без особых интеллектуальных усилий, в других — этот акт требует от говорящего предельного напряжения умственных способностей и глубокого знания языка. Облекая свою мысль в языковую форму, говорящий делает выбор, в силу своего
знания языка, из многообразных средств, предоставляемых ему языком. Этим самым говорящий участвует в общем движении языковых процессов, подчиняясь одновременно норме, узусу либо выходя за пределы того или другого в своем индивидуальном речеобразовании. Функционирование языка есть одновременно непрерывный процесс его изменения.
Форма — это все то, что говорящие знают, чем они владеют и что в их общении, как правило, не является собственно предметом сообщения, т. е. содержанием их речи. Именно владение формой языка позволяет говорящему выразить этим языком то или другое содержание. Как уже говорилось, форма — это строевые элементы самого содержания. Будучи таковыми, форма и ее элементы относительно неподвижны и неинформативны; или, точнее говоря, они информативны категориально; они являются средством организации и выражения мысли, которым говорящий владеет в отвлечении от конкретных актов речи. Единство формы и содержания, их неравенство и противоречие и обусловливает движение и изменение в языке. Если содержание, т. е. смыслы языковых единиц и речевых актов, подвижны, изменчивы и неповторимы, то изменение формы отличается совсем иными темпами изменения и развития.
Таким образом, консерватизм формы и подвижность содержания необходимы для нормального функционирования языка, поскольку такая природа языка как единства формы и содержания уравновешивает, с одной стороны, относительное постоянство системы языка, разделенного во времени и пространстве, с другой,— потребность отражать неповторимость содержания, образующегося в различных изменяющихся условиях речи. Такая природа языка определяет и темпы его изменения и развития.
Язык как объективное явление изменяется и развивается по своей внутренней логике, которая остается неизвестной говорящим. И только ученые, исследующие эволюцию языковой системы, в той или другой мере открывают тенденции развития языка, его направление и логику. Своеобразие этого развития заключается в том, что объективный его ход слагается из субъективных намерений речевой деятельности участвующих в общении людей. Вспомним весьма примечательное суждение Потебни о том, что язык,, будучи орудием сознания, сам по себе создание бессознательное. Говорящие на том или другом языке сознательно не участвовали в образовании имен существительных, прилагательных, наречий, фонем, определенного строя предложения и т. д. Все это образовалось в процессе эволюции
языка объективно и стихийно, независимо от воли и намерений говорящих, отвечая потребностям человеческого общения, отражения и познания действительности, развития языка и мышления.
В связи с этим возникает весьма важный не выясненный в языкознании вопрос о том, существует ли определенная цель в этом объективном движении и развитии языка? Многие лингвисты оспаривают самое постановку этого вопроса (, Е. Косериу и др.). В то же время эта проблема следует из всего содержания известного теоретического труда В. Гумбольдта.
Е. Косериу считает, что проводником изменений является речь. Если же мы зададимся вопросом о причине изменений языковых фактов, мы необходимо должны выяснять, для какой цели эти изменения произошли. «. Язык,— пишет Е. Косериу,— как объективный факт, как историческая техника речи ни к чему не стремится и не может стремиться. Телеологический подход, при котором языку приписывается стремление к внешней объективной цели, должен быть отвергнут» (И, с. 302—303).
Однако это суждение Е. Косериу требует уточнения. Разумеется, у языка нет какой-то внешней объективной цели или внешней тенденции развития. Но источник его внутреннего самодвижения, как мы хотели показать выше, есть. Источник самодвижения, надо полагать, определяет и направление движения и развития языка. В языке сквозь множество целей, в соответствии с которыми осуществляется речевая деятельность говорящих и образуются высказывания, в которых язык и существует как явление, пробивает себе дорогу, как равнодействующая, определенное направление развития языка. Если бы в языке действовали только субъективные цели и отсутствовало детерминированное под воздействием прежде всего внутренних факторов закономерное развертывание и развитие языковой системы, то откуда бы могла сформироваться строгая система языка, точнее — система систем, в создании которой говорящие хотя и участвовали, но совершенно бессознательно, не догадываясь о происходящих глубинных процессах. Нам, разумеется, не дано знать предопределенности цели, но определение или угадывание направления движения языка на основе сравнения в синхронии и диахронии изменяющихся фактов возможно. Э. Сепир, например, писал: «У языкового движения есть свое направление. Направление это может быть в общих чертах выведено из прошлой истории языка» (13, с. 121).
Изменение — постоянно присущее языку свойство. «Язык создается посредством изменения,— пишет Е. Косериу,— и «умирает» как таковой, когда он перестает изменяться» (11, с.343). Задолго до Е. Косериу сходное положение высказывал : «Язык находится в постоянном изменении, в этом изменении и состоит жизнь языка» (14, с. 5). Изменение языка — это не просто модификация раз навсегда созданной, реализованной системы, а непрерывное создание системы 106
(11, с. 303—304). Система находится в постоянном движении и созидании, а язык тем самым пребывает в постоянном процессе систематизации. Изменения не противостоят системе, они не могут быть восприняты вне непрерывности языка. Изменения не могут происходить между двумя различными статичными состояниями языка; «состояние языка — это не статические этапы, а моменты непрерывной систематизации» (11, с. 340).
Уже из того наблюдения, что форма изменений языка представляет собой сосуществование изофункциональных элементов, можно сделать вывод, что изменение — не изолированный факт, оно предполагает системные отношения.
Выше мы говорили о внутреннем источнике самодвижения языка. Между тем немало сторонников того взгляда, что главные причины изменения и развития языка находятся вне языка; изменение и развитие языка обусловливается прежде всего социальными процессами. В связи с этим в отечественном языкознании, начиная с пятидесятых годов, утвердилось деление законов развития языка на внутренние и внешние.
О наличии языковых законов свидетельствует тот факт, что язык и в своем синхронном функционировании, и в исторической эволюции не представляет собой совокупности разрозненных, обособленных элементов. Изменяющиеся, эволюционирующие языковые явления находятся между собой в регулярных, причинно-следственных отношениях, отражающих их внутренние, необходимые связи. Однако сам термин закон традиционно употребляется в разных значениях. Одни ученые понимают законы как обязательные жесткие правила, которыми говорящие руководствуются в своей речевой практике (15, с. 363). Эти законы применения языка усваиваются человеком с детства, и нарушение их есть показатель недостаточного владения языком. В таком понимании языковых законов между языковедами, можно сказать, нет разногласий. Именно такие законы организуют язык в строго упорядоченное системное единство. Но термин закон имеет и другой более распространенный в теоретическом языкознании смысл: под законом понимают регулярные причинно-следственные связи между теми или другими явлениями языка в его функционировании и эволюции. Разумеется, говоря о языковых законах, мы должны иметь в виду их своеобразие, по сравнению, например, с химическими, физическими и другими естественными законами.
Различение внутренних и внешних законов теоретически связыва-
ется с различением внутренней и внешней истории языка де Куртенэ (15, с. 369—370), внутренней и внешней лингвистики Ф. Соссюра (4, с. 49 и ел.), наконец, с внутренней и внешней структурой языка Е. Косериу (11, с. 218 и ел.).
Под внутренними понимают законы, которые представляют собой такие причинно-следственные процессы, действие которых ограничивается отдельными языками, а в их пределах — отдельными уровнями. Поэтому говорят о законах фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики (ср.: полногласие и неполногласие в славянских языках, падение редуцированных в русском языке и как следствие ряд других фонетических закономерностей; образование членных прилагательных в русском языке, передвижение согласных в немецком и др.). Уже само название — внутренние законы — говорит о том, что имеются в виду такие регулярные отношения между языковыми явлениями и процессами, которые возникают в результате спонтанных, независимо от внешних воздействий причин. Именно внутренние законы являются свидетельством того, что язык представляет собой относительно самостоятельную, саморазвивающуюся и саморегулируемую систему.
Внутренние законы весьма разнообразны, поэтому их, в свою очередь, подразделяют на общие и частные.
Общие законы охватывают все языки и могут иметь место на всех уровнях языка. Об общеязыковых закономерностях мы можем говорить на том основании, что языки имеют сходную уровневую структуру, в которой выделяются такие конститутивные единицы, как фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение. Для языков, как знаковых систем, характерна асимметрия языкового знака; во всех языках наблюдается многозначность, синонимия, гиперонимия, гипо-нимия, омонимия, антонимия, вариантность и другие общеязыковые явления.
Частные законы, как это уже явствует из самого названия, касаются закономерных причинно-следственных процессов, происходящих в отдельных языках (ср. в русском языке: падение редуцированных гласных, регрессивная ассимиляция согласных, оглушение согласных на конце слова, характер ударения, особенности формирования отдельных частей речи и др.).
Внешние законы проявляются в результате связи языка с историей общества, различными сторонами человеческой деятельности. Здесь имеются в виду те внешние по отношению к языковой структуре условия, которые вызывают закономерные изменения в самом языке. Так, территориальное или социальное ограничение в использовании языка ведет к образованию территориальных и социальных диалектов. Закономерные связи между языком и развитием общественных формаций обнаруживаются в ходе исторического развития общества, в частности, в образовании национальных языков и национальных литературных языков. Усложнение социальной жизни,
разделение труда членов общества ведет к формированию стилей, стилевых разновидностей, научных и профессиональных подъязыков и пр.
Весьма распространенная в недавнем прошлом концепция развития языка в зависимости от развития общественных формаций заключалась в том, что каждой исторической общности людей соответствовал строго определенный исторический этап развития языка. Соответственно выделялся язык племени, союза племен, народности, нации. Однако такое выделение языков, связанных с той или другой исторической общностью людей, с формами их общественного устройства, требует уточнения.
На изменения в историческом движении общества непосредственно отзывается внешняя структура языка. Эволюция общественных форм жизни народа не нарушает его исторического тождества, непрерывности его развития. Подобно народу, остающемуся тождественным самому себе в процессе изменения общественных формаций, язык, отражая своими определенными элементами общественные условия жизни народа, носителя данного языка, также остается тождественным самому себе. Под воздействием тех или иных условий жизни изменяется словарный состав языка, образуются местные (территориальные) и социальные диалекты, профессиональные языки, подъязыки науки, жаргоны, стили, жанры. Разумеется, изменение и усложнение внешней структуры языка воздействуют и на его внутреннюю структуру. Однако историческая смена форм общественной жизни народа не нарушает тождества языка, его самостоятельности как особого по своей природе явления. Историческое тождество языка прослеживается на протяжении многих веков, и не сменой общественных формаций обусловливаются этапы или стадии развития языка и мышления. Те или другие общественные события, смена социального строя — это процессы, ограниченные определенными временными рамками. Изменение и развитие языка, и прежде всего его внутренней структуры, измеряются совершенно другими по времени темпами, исчисляемыми, как правило, многими столетиями.
Говоря о языке как об исторически развивающемся явлении, языковеды выделяют три взаимосвязанных понятия, которые призваны отразить, по возможности, конкретно и полно процесс исторической эволюции языка, а именно: его изменение, развитие и совершенствование. Однако в литературе нет однозначного понимания этих категорий, четко не определены их содержание и отношения. Не претендуя на окончательное выяснение содержания и взаимоотношения этих
понятий, укажем на некоторые разграничительные их признаки. По отношению к языку данные термины приобретают индивидуальные, специальные смыслы.
Изменение — это конкретное нарушение тождества той или другой языковой единицы, выражающееся в образовании на ее основе изофункционального элемента либо приобретение в результате образования новой единицы новых функций. Развитие представляет собой действие закона, происходящего в строго определенных лингвистических условиях и имеющего обобщенный либо всеобщий характер. Развитие (относительное или абсолютное) знаменует собой переход одного качественного состояния языковых явлений в другое. Совершенствование — близкое по содержанию к развитию понятие, оно включает оценку произошедшего изменения языковых явлений, их развития. По итогам такого процесса, который отличается значительными периодами развития тех или иных фактов языка, можно судить о более точном, дифференцированном, объективном отражении действительности и сообщении мысли.
Язык — совершенное орудие общения и выражения мысли; его степень развитости и совершенства обусловлена соответствующим состоянием общества, степенью, в свою очередь, развитости мышления. Общество и человеческое мышление не стоят на месте и в истории человечества, как известно, могут находиться на разных этапах своего развития. Первобытный язык не может обслуживать потребности общения и мышления современного развитого общества. Но и язык современных цивилизованных наций, как утверждают ученые, был бы мало пригоден для обслуживания общества, находящегося на низших ступенях развития. Язык совершенен по отношению к степени развитости соответствующего ему состояния общества и мышления, которые он обслуживает; язык является «снятым» выражением этого состояния.
Если вопрос об изменении языка ни у кого не вызывает сомнений, ввиду своей очевидности, то проблема развития и совершенствования языка остается в языкознании дискуссионной. Представители классического языкознания не сомневались в том, что языки в процессе своей истории развиваются и совершенствуются. Большинство языковедов и сейчас положительно отвечают на вопрос о развитии и совершенствовании языка, одновременно подчеркивая сложность и неочевидную доказательность этого вопроса. В то же время ряд видных языковедов ставит под сомнение вопрос о развитии и совершенствовании языка. Различный подход к названной проблеме, по-видимому, связан с двоякой природой самого языка как одновременно природного и общественного явления.
Как природное явление язык выступает в виде определенной функции человеческого организма; и как таковой язык вплетен в человеческую деятельность, объективно существуя в виде ее разновидности, а именно: речи и речевой деятельности. В то же время сам
человек — существо общественное; и первичная функция языка, по мнению лингвистов,— коммуникативная. Как показывают исследования языков народов, находящихся на разных ступенях общественного развития, в том числе и первобытных, язык во всех таких условиях остается совершенным орудием для обслуживания коммуникативных потребностей таких обществ. На любом этапе развития общества язык в условиях выполнения потребностей говорящих обладает большой информативной избыточностью, что и создает достаточное поле свободы для говорящих. Но своей онтологией, самостоятельностью развития, своими особыми законами и структурой обладает и общество, обслуживаемое языком. Поэтому эволюция самого общества, его законы и потребности не могут не касаться языка.
Двоякая природа языка находит отражение в наиболее общих элементах его строения. В языке выделяется внутренняя структура, относительно автономная и замкнутая, содержащая существенные, отличительные элементы данного языка (ср., в первую очередь, фонетическую, грамматическую, словообразовательную системы), создающие его своеобразие, качественную определенность.
Кроме внутренней, выделяется внешняя структура, отражающая в известной степени структуру самого общества, обслуживаемого данным языком. Это социологизированная структура, тесно связанная с общественными процессами. Поэтому, наряду с внутренними процессами языка, его эволюцией, обусловленной прежде всего самой творческой природой непосредственного языкового общения, встают исторически конкретные задачи организации, а следовательно, и изменения языка, связанные с развитием собственно общества, потребностями языкового общения в разных сферах этого общества. Эти задачи адресованы внешней структуре языка; их решение — это общественная необходимость; оно должно учитывать государственные, культурные, литературные, эстетические, экономические и другие запросы общества, возникающие в условиях развивающейся нации. Так, создание национальных литературных языков явилось настоятельной потребностью общества на определенном этапе его развития. Эта необходимость, как оказывается, не может быть разрешена спонтанным, внутренним развитием языковой системы, поэтому требует субъективного «вмешательства» в языковой процесс, точнее — в стилистическую, жанровую организацию внешней структуры языка. Создателями национальных литературных языков история избрала, как правило, великих национальных поэтов.
Изучение истории языка, генетическое исследование древних его состояний дают основание утверждать о поступательном развитии и совершенствовании языка. Разумеется, этот процесс происходит весьма медленно, охватывая известные периоды истории общества, а также, надо думать, и его предысторию. Потебня, говоря о поступательном
развитии способов мышления и их отражении в фактах языка, указывает, что доступная нашему наблюдению история языков не дает основания говорить о смене исходного мифического мышления более поздними и более совершенными способами мышления — поэтическим и прозаическим или научным. Способы мышления в известный нам исторический период не сменяют друг друга, а сосуществуют и углубляются. Речь может идти только о преобладании того или другого способа в определенные исторические эпохи общества.
Примерами развития и совершенствования языка в процессе его эволюции может служить следующее: формирование частей речи из первобытного слова-предложения и их рост по направлению к современному состоянию языка; количественный рост словарного состава языка, отражающий поступательное познание действительности, одновременно соответствующее развитие словообразовательной системы языка; эволюция предложения из первобытного нерасчлененного слова-предложения в расчлененное грамматически строго оформленное на основе связи прежде всего субъекта и предиката; рост отвлеченности и одновременно постепенная эволюция образности, ее характера и содержания; расширение функций языка, что находит выражение в формировании стилей, стилевых разновидностей, жанров и др.
Индоевропейские языки в своей истории развивали то, что им досталось в наследство первоначально от индоевропейской общности, затем от наследия той ветви языков, куда они вошли после распада индоевропейского праязыка (ср. общеславянское единство). Современные языки, входящие в индоевропейскую семью,— наследники и собственной истории со времени их отдельного, самостоятельного существования. По свидетельству ученых, изучающих исторические процессы языков, эта их эволюция характеризовалась многими конкретными пересекающимися, противоречивыми тенденциями. В этой эволюции должны различаться частные языковые процессы, которые относятся к языковой технике, способствующей выражению содержания и могущей быть весьма разнообразной и разнохарактерной, и процессы, связанные с прогрессом языка, что обусловлено развитием нашего мышления, духовной и материальной жизни общества.
История языка может отличаться сменой тенденций развития, образованием одних единиц языка — фонем, слов, аффиксов, форм, конструкций — и убыванием других. Такие противоречивые тенденции было бы неосторожно однозначно оценивать в первом случае как развитие и совершенствование языка, а во втором — как его деградацию. Образование новых единиц — это отнюдь не всегда показатель прогресса языка, как и убывание из языка единиц — необязательно следствие его упадка.
Источник





