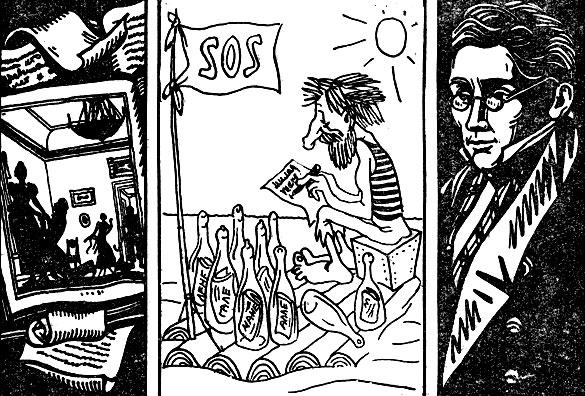Каждая только ей присущим способом
А зачем, например, писать письмо человеку, если живешь с ним в одном городе?
— Но ведь они жили в разных городах. А зачем, например, писать письмо человеку, если живешь с ним в одном городе?
— Действительно, эта мысль начинает уже казаться анахронизмом. Когда несколько лет назад была опубликована переписка М. Булгакова с В. Вересаевым (не будь ее, мы никогда не узнали бы перипетий их совместной работы над пьесой о Пушкине), не все, наверное, обратили внимание на то, что корреспонденты жили в одном городе.
Телефон — удобней, доступней — и диктует облегченные формы общения.
Многие помнят давнюю миниатюру Аркадия Райкина — разговор в телефонной будке. Расплывающееся от удовольствия лицо и только две реплики, все время чередующиеся: «Ну да?», «Иди ты!» В письме, даже самом непритязательном, такая лапидарная форма общения, пожалуй, не пройдет — придется поломать голову, чтобы как-то распространить свою мысль, расширить словарь, прибегнуть, таким образом, к более сложному для «выполнения», но, несомненно, более содержательному способу общения.
Но, быть может, именно в этой облегченности и есть простая правда века? Может быть, совершенно утопическая и потому бессмысленная затея — пытаться противостоять этому все более широкому проникновению современной техники во все сферы нашей жизни и в том числе экспансии телефона? С такой фетишизацией сложного устройства, самим человеком же и придуманного, невозможно, однако же, согласиться. Человеческое пользование современными техническими средствами должно быть осмысленным; такого уговора не было, чтобы непременно пользоваться ими бессознательно, оставаясь в неведении относительно возможностей и назначения каждого из них.
А зачем, например, писать письмо человеку, если живешь с ним в одном городе?
Многие с обидой, а некоторые даже с негодованием возразят, что по телефону, как и не по телефону, они говорят нормальным литературным языком и не чувствуют, чтобы та замена эпистолярных форм общения телефоном, по поводу которой сетует автор, в чем-то бы их окорачивала, сужала бы их обмен духовными ценностями со своими современниками.
Тем не менее, увы, окорачивает. Заметно или незаметно для них самих, но от этого не менее неумолимо.
Дело в том, что устная наша речь не взаимозаменяема с письменной. Две эти формы языка существуют лишь параллельно и равноправно, и каждая несет свои собственные функции, каждая особым, только ей присущим способом участвует в формировании и явлении нашей духовной жизни. Устная речь, при всей ее гибкости, свободе и непосредственности, притом, что на помощь ей приходит мимика, жест, тембр голоса, разнообразнейшие его модуляции, смех (или слезы) говорящего, тем не менее ограничена в своих возможностях. Если мы только говорим и ничего не пишем, кроме деловых бумаг, мы не реализуем достаточно полно возможностей своей личности и своего общения с людьми. Во-первых, потому, что, пользуясь исключительно устною формой речи, мы не востребуем значительной доли богатств, заложенных в нашем языке. «Только на письме, только в письменном слоге вполне является синтаксис, — писал К. Аксаков, — только там развивает он все свои стороны, все богатства и разнообразие оборотов, чего не может допустить разговор». Мы не прибегаем в разговоре к столь характерному для книжной речи сложному, разветвленному периоду с причастными и деепричастными оборотами, способному вобрать множество обособлений и уточнений, в малой степени используем богатую систему русского синтаксиса, способную передать разнообразнейшие оттенки причинно-следственных и пространственно-временных связей, редко строим фразы с несколькими придаточными. А ведь это все не параграфы из школьного учебника грамматики, а формы языка, приспособленные для выражения оттенков мысли, не выражаемых другим способом — вне сложного строя письменной речи. Это значит, что утех, кто пользуется устной только речью, все эти наиболее тонкие оттенки мысли оказываются невыраженными — не переданными собеседнику и более того — не уясненными и себе самому.
Да, вторым следствием пренебрежения к письменной форме речи является пренебрежение к каким-то сторонам собственной духовной жизни. Обращаясь к письменной форме, мы не только овладеваем богатствами родного языка, но и учимся размышлять. При этом для людей, не связанных с гуманитарными занятиями и профессионально имеющими дело лишь с сугубо специальными жанрами письменной речи — деловыми и научными, наиболее естественной формой письменного самовыявления, ближе всего связанной с их жизнью, остается переписка.
Для гуманитария же переписка важна не менее, кроме прочего, еще и как один из путей незаметного, ежедневного совершенствования профессионального своего языка. В письме, обращенном к коллеге, мысль может найти неожиданно свободное и точное выражение, ускользающее в те часы, когда автор твердо знает, что он пишет статью, и внутренне скован привычным своим (и иногда много лет не пересматривавшимся) представлением о канонах жанра. Человек, занимающийся проблемами современного искусства, часами говорит пб телефону с авторами прочитанных им книг, статей, высказывая интересные соображения по поводу прочитанного. Писем он не пишет, потому что есть телефон, — это объяснение он всегда подчеркивает и уверен в его основательности. Пишет он только статьи и книги, иногда официальные отзывы. Может быть, отчасти поэтому язык его статей — заметно скованный, нивелированный — почти не изменился за последние 15-20 лет, когда язык всей гуманитарной науки претерпел такие существенные перемены. Интеллект человека развивался, изощрялся, а формы письменного выражения законсервировались. В разговорах и выступлениях человек этот неизменно обнаруживает более острое, менее стандартизованное мышление, чем в своих работах.
Можно попытаться понять это предпочтение телефонного и устного разговора письму там, где речь идет о вещах серьезных, об оценках чужой работы и развитии собственной мысли. Разговор «легче»; он требует от говорящего много меньше, чем письмо; все эти «Видишь ли, вот что я тебе должен сказать. Понимаешь, где-то это у тебя чуть-чуть перетянуто. » в письме бы «не прошли», потребовали бы замены словом более точным. Сверх того, в диалоге человек, нередко незаметно для себя, получает удовольствие от тех сугубо престижных оттенков, которые в какой-то степени исчезают в письме: он говорит, его слушают.
Не только качества мысли, но качества воли, характера формируются в нас писанием писем. В письме человек остается перед листом бумаги один на один — без тех подпор, которые всегда к его услугам в устной речи, где все, что не выговорится словом, дополнится выражением лица, где междометия нередко вполне удовлетворительно заменяют собою целые фразы. В письме человек принужден найти для всего, что он хочет сказать, более или менее полное словесное выражение, и это заставляет его с пристрастием допросить себя о том, что же именно он хочет сказать. В устном разговоре нередко вполне удается вовсе не иметь своего определенного мнения по обсуждаемому вопросу. Пылкий тон беседы, активная реакция на отдельные какие-то реплики спора может существенным образом затемнить факт отсутствия у одного из собеседников своего отношения к предмету. В письме это труднее.
И еще одно следствие пренебрежения к переписке — резкое сужение имеющихся в распоряжении человека форм общения с другими людьми. Действительно, телефонный разговор, встреча, письмо — все это совсем не взаимозаменяемые способы общения. Каждый многократно имел случай почувствовать разницу между телефонным разговором и беседою лицом к лицу. Иные слова легче сказать по телефону, когда лицо собеседника нам не видно, да и он не видит нашего. А начиная письмо, пишущий вступает в совсем особую сферу, в иную, собственно говоря, действительность. Он уже не с одним только адресатом своим входит в соприкосновение, а со всею огромною письменной традицией, со всеми, писавшими до него на родном языке. Неосознанно, но неизбежно он выбирает, к какой традиции ему примкнуть, какой выбрать тон, стиль, какую меру откровенности. Но прежде осуществляется сам выбор эпистолярной формы, предпочтение ее телефону. На каких же основаниях производится этот выбор?
Пытаясь понять эти основания, мы опрашивали разных людей и слышали разные ответы.
Молодой одаренный режиссер решительно предпочитал разговор письму: «В письме, знаете, одну и ту же фразу сегодня прочитаешь так, завтра совсем иначе. А телефонную трубку я слышу всем ухом, я почувствую фальшь интонации и искренность почувствую. «
А математик столь же определенно предпочитал письмо телефону: «Телефонный звонок ни к чему не обязывает. Это дело легкое — покричишь, пошумишь, что угодно скажешь. А письмо — дело другое: к кому ты равнодушен, письма не напишешь. Для этого надо человека любить. В письме труднее притворяться. «
В ответах видна была и некая общая для многих современников шкала ценностей в отношении некоторых специальных разновидностей общения. Сохраняется, например, привычка поздравлять человека письменно — телеграммой, открыткой, письмом. Поздравление устное хоть, может быть, радует не меньше, но, так сказать, быстро истаивает в воздухе. Его нельзя перечитать — ни на другой день, ни через несколько лет. Неудобным считается и по сей день обращаться по телефону с серьезной просьбой, требующей от того, к кому мы обращаемся, каких-то усилий. Неосознанным образом мы стремимся как-то уравновесить эти усилия — своими, и отказываемся от телефона как наиболее «легкого», необременительного для просящего способа связи. Письмо, «обременяя» пишущего, как бы исключает тем самым мысль о небрежности, бесцеремонной легкости его обращения к адресату.
И очень часто слышали мы недоуменное восклицание: «Да о чем писать-то?» или сокрушенное признание: «Не умею я письма писать!»
Источник
К вопросу о принципах взаимоотношения знаковых систем
Задачей данной статьи является рассмотрение соотношение языка и культуры с точки зрения семиотики.
Семиотический подход можно назвать одним из наиболее распространенных в рамках гуманитарного знания. Данный подход имеет длительную и насыщенную историю. В наши задачи входит лишь краткое исследование истории вопроса, изучение наиболее важных моментов в динамике его развития.
Подход к языку как интерпретирующей системе характерен не только для представителей семиотики, но и для лингвистов. Так, Э. Бенвенист не занимался непосредственно семиотическими аспектами соотношения языка и культуры, но он был один из тех, кто подготовил почву для того, чтобы в конечном счете этот союз рассматривался в контексте семиотики, поскольку для Э. Бенвениста центральной проблемой семиологии было определение статуса языка среди других знаковых систем.
Э. Бенвенист вывел принципы взаимодействия семиотических систем: во-первых, принцип отсутствия взаимозаменяемости. Однако, это не означает, что в рамках культурного семиозиса среди этих систем не могут действовать отношения дополнительности. В контексте референтного социокультурного пространства культурные формы, представленные конкретными семиотическими системами, могут дополнять друг друга. П. Фарб, занимающийся проблемами английского языка и культуры, говорит о принципе дополнительности как принципе взаимодействия знаковых систем.
М. М. Бахтин в своей концепции социологического метода в науке и языке определял роль языкового знака как «среды сознания». Даже если «принципиально нельзя передать словом музыкальное произведение или живописный образ», тем не менее отрицать тот факт, что все культурные знаки «опираются на слово и сопровождаются словом, как пение сопровождается аккомпанементом», значило бы упрощать и суть проблемы, и смысл выдвигаемого принципа: По выражению М. М. Бахтина наше сознание всегда умеет найти к культурному знаку «какой-то словесный подход».
Таким образом, в своих отношениях с культурой язык функционирует как универсальная знаковая система. Универсальность этой системы объясняется тем, что все другие системы используют язык в качестве посредника. При всей многочисленности знаковых систем характер их взаимоотношений определяется, прежде всего, формами их взаимодействия с языком. Язык играет роль универсальной знаковой системы, на язык которой могут быть, а иногда и должны быть переведены другие системы, входящие в культурный семиозис.
Второй принцип функционирования знаковых систем, выведенный Э.Бенвенистом, сводится к селекции. Он проистекает из следующих положений о семиотических системах: 1)каждая система имеет конечный набор знаков; 2) правила их соединения; 3) полную независимость от видов дискурсов, генерируемых данной системой.
Третий принцип сводится Э. Бенвенистом к тому, что каждая означающая система характеризуется только ей присущим способом обозначения. В связи с этим на первый план выдвигается проблема знаковой единицы. Одновременно, единица знаковой системы является дифференцирующим признаком, на базе которого выделяются системы значимых и системы незначимых единиц. Не всякая единица является знаком, не всякий знак — единицей. Язык состоит из знаковых систем, и эти единицы являются знаками, т. е. язык есть система, в которой значение присуще даже элементарным единицам.
Э. Бенвенист также определил характер взаимоотношения между знаковыми системами. Это прежде всего отношения соответствия, отношения интерпретантности, которые носят семиотический характер и проявляются в том, что одна семиотическая система может интерпретироваться или может быть переведена на язык семиосистемы иного типа. Но эти отношения не означают сводимость одной системы знаков к другой. Данные отношения свидетельствуют о специфичности взаимодействия семиотических систем друг с другом и о большом отличии этих отношений от других.
Специфика языка как одной из семиотических систем культуры заключается в том, что он обладает двумя способами репрезентации: семиотическим и семантическим. Семиотический тип требует узнавания своих единиц; знак «жив», если его узнают, опознают члены языкового сообщества. Семантика же требует понимания.
Большой вклад в разработку вопросов культурной семиотики внес Пражский лингвистический кружок. Его вклад значителен в трех сферах: 1) взаимодействие знаковых систем; 2) разработка идей функционализма систем; 3) разработка идеи системных отношений, заключающейся в том, что другие знаковые системы, отличные от естественного языка, образуют сложную систему систем разнообразных семиотических кодов (искусство, одежда, этнографические информационные системы). Очень кратко суть исследований в области взаимоотношений языка и культуры можно свести к следующим выводам: 1)культура есть сложная семиотическая система, существующая и развивающаяся в еще более сложной социальной системе. Будучи системным образованием, культура, в свою очередь, состоит из других систем, которые находятся относительно друг друга в сложных и исторически изменчивых отношениях. Статус относительной автономии составляющих культуру систем, имманентность источников и характера развития создают динамику устойчивого равновесия во взаимодействии этих систем; 2) язык есть лишь одна из знаковых систем, входящих в систему культуры, хотя и имеющая статус привилегированности. Являясь одной из систем культуры, язык, тем не менее, развивается по своим собственным законам, но обе системы неразрывно связаны между собой сетью бесконечных взаимопроникновений и взаимообусловленностей.
Источник