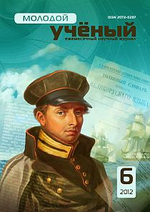Интерпретация как способ понимания художественного текста
Художественный текст представляет собой один из важнейших видов художественной языковой коммуникации. Обращаясь к интерпретации текста, мы хотели бы одновременно коснуться и вопроса о его восприятии и понимании, что в свою очередь также составляет и предмет исследований герменевтики.
С точки зрения филологической герменевтики понимание есть процесс постижения смйсла (или смыслов) текста [1, С. 5]. Это своего рода диалог между говорящим и слушающим, пишущим и читающим, в процессе которого осуществляется деятельность по распредмечиванию смысла текста, именуемая текстовой деятельностью [2, С. 78]. Диалог этот можно рассматривать как процесс столкновения картин мира автора и интерпретатора, поскольку понимание любого художественного произведения обусловлено комплексом факторов социально-психологического и культурно-языкового характера, контекстом бытия реципиента. Васильева В.В. отмечает в этой связи, что для каждого читателя существует только его знаемое, только ему данное и именно у него возникающий вопрос [3, С. 21]. В процессе прочтения текста или диалога с текстом реципиент пытается постичь смысл, заложенный автором в произведении, т. е. найти точки соприкосновения между своей и авторской картиной мира, между «своим» и «чужим». Адекватное восприятие инокультурного текста происходит только тогда, когда реципиенту удается осмыслить коммуникативную интенцию автора. Этот процесс сопровождается извлечением из памяти реципиента сведений, при помощи которых осмысляется получаемая информация.
Восприятие фактов иноязычной культуры в тексте характеризуется национально-специфическими различиями, существующими между родной и чужой культурами. Здесь проблема понимания встает наиболее остро, так как именно эти различия создают определенные трудности в процессе восприятия иноязычного текста, что может привести к неадекватной интерпретации чужой культуры.
Согласно концепции Бахтина М. М., понимание текста включает в себя отдельные акты или уровни, каждый из которых выполняет свою функцию: восприятие текста; узнавание текста и понимание его общего значения в данном языке; понимание его значения в контексте данной культуры; активное диалогическое понимание его смысла, совпадающее с его формированием [4, С. 361]. Исходя из этой концепции, понимание текста требует выхода за пределы его буквального прочтения и может быть определено как истолкование, интерпретация последнего путем соотношения с другими текстами и культурным контекстом.
Таким образом, чтобы раскрыть смысл и, следовательно, понять художественный текст, необходимо соответствующим образом интерпретировать его. Как показал теоретический и практический анализ, процесс интерпретации предполагает следующие этапы: догадка, предположение, выдвижение гипотезы; вывод следствий и их сопоставление с известными данными; согласование двух первых этапов, в результате чего постигается смысл текста. Интерпретация текста представляет собой своеобразное взаимодействие двух миров: внутреннего мира литературного произведения и мира читателя. Ученые отмечают, что в процессе интерпретации реципиент строит свою проекцию текста, в которую наряду с образом идеального художественного текста и механизмами сличения идеального текста с предлагаемым, входят механизмы аксиологической интерпретации, позволяющие реципиенту давать ту или иную интегральную оценку текста [5, С. 86]. Вследствие активной роли реципиента, привносящего в художественный текст собственные представления о жизни и жизненных ценностях, становится возможным существование нескольких различных интерпретаций одного текста, что объясняется также разным уровнем готовности к пониманию и разными характеристиками языковых личностей. На основе интерпретации мы можем оценить степень и глубину понимания текста реципиентом.
Существующие в настоящее время методы интерпретации художественного текста предлагают читателю целую систему различных приемов, направленных на выявление глубинного смысла литературного произведения, постижение его основной идеи и замысла автора. В рамках данной статьи мы хотели бы обратиться к экзистенциональному интерпретационному методу, который берет свое начало в одном из направлений современной философии, и рассматривает в качестве объекта изучения человеческое бытие. В данном случае литературное произведение рассматривается как отрезок реальной действительности. Это та целостность, которая делает очевидным происхождение и основные вопросы человеческого существования. Этические, религиозные, политические и мировоззренческие представления читателя, чье субъективное суждение особенно важно при экзистенциональном методе, сталкивается здесь с излагаемыми в тексте-вопросами и проблемами.
При рассмотрении литературного произведения читатель стремится через собственные субъективные оценки, через осознание включенной в текст информации найти объективную правду. Таким образом, для экзи-стенционального метода характерно прежде всего субъективное поведение читателя (его собственное участие, чувства, интересы, переживания и настроения).
Источник
Интерпретация и объяснение в процессе понимания
Статья просмотрена: 1079 раз
Библиографическое описание:
Алексеенко, М. А. Интерпретация и объяснение в процессе понимания / М. А. Алексеенко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 6 (41). — С. 471-473. — URL: https://moluch.ru/archive/41/5013/ (дата обращения: 19.11.2021).
Ни для кого не секрет, что проблема понимания художественного произведения непосредственно связана с проблемой интерпретации или истолкования. Интерпретация берет свое начало от комментариев и толкований Священного Писания, чем занимается герменевтика. В центре внимания герменевтики находится процесс чтения, понимания и анализ текстов, которые были написаны в совершенно ином историческом контексте. Библейская герменевтика подробнейшим образом изучает прочтение, осмысление, практическое применение текстов Священного Писания и особенно их влияние на нашу жизнь. Как справедливо указывает Э. Тисельтон, «с начала XIX века, благодаря трудам Фридриха Шлейермахера (1768-1834), герменевтика включает несколько академических дисциплин. (1) Библейская герменевтика затрагивает, в первую очередь, библейские и богословские вопросы; (2) во-вторых, философские, включающие нашу способность понимать текст, а также условия, которые создают возможность понимания; (3) вопросы литературоведения, касающиеся видов текстов, а также способов их прочтения; (4) социологические вопросы о том, как принадлежность к той или иной социальной группе, расе или полу оказывает влияние на прочтение текстов; (5) и, наконец, герменевтика непосредственно связана с теориями коммуникации, а зачастую с лингвистикой, поскольку изучает весь процесс передачи содержания или воздействия текстов на читателя или сообщество» [8, с.7].
По утверждению Незнамовой, Шлейермахер выдвигает общие методологические правила истолкования текстов:
общий обзор произведения;
использование грамматической и психологической интерпретаций, т.е. рассматривается язык произведения, стиль, эпоха, биография автора, особенности его личности и индивидуальность;
увязывание двух интерпретаций;
их согласование или же поиск причины их рассогласования [6, с. 129].
Шлейермахер уделяет достаточно много внимания психологическому истолкованию, поскольку его невозможно обнаружить непосредственно в тексте произведения. По мнению Шлейермахера, следует обращать внимание на то, «как были даны автору предмет и язык и что можно знать о его личной жизни» [10, с.20]. Согласно теории Шлейермахера, существует два метода психологической интерпретации. Первый основывается на интуитивном поиске понимания, а второй – на сопоставлении мнения интерпретатора и мнения автора. При этом результаты использования данных методов не должны противоречить друг другу, и только в этом случае возможна успешная интерпретация произведения. Как утверждал Шлейермахер, истолкователь может понимать произведение лучше, чем понимал его автор, т.к. реципиент (истолкователь) пытается понять замысел художественного текста, основываясь на знаниях особенностей жизни автора, с высоты исторического опыта. Но любой интерпретатор обязательно привносит некое субъективное мнение, понимание, основываемое и на своем собственном опыте. Лихачев Д. С. писал: «Писатель создает концепт, который обладает потенцией своего развертывания у читателей. Поэтому каждое новое воспроизведение художественного произведения может продвигаться вглубь, открывая неизвестное ранее. Воспринимающий может даже лучше понимать произведение, чем сам автор, или не так, как автор» [5, с.68-69]. И действительно, «одно из фундаментальных положений современной герменевтики состоит в том, что понимание укоренено в предшествующем опыте, никогда не начинаясь «с нуля» [9, с. 4]. Таким образом, можно утверждать, что в различные эпохи одни и те же произведения интерпретируются по-разному.
Для более полного и верного истолкования мало одного художественного текста. По мнению многих исследователей (Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин, В.Г. Кузнецов, и др.) рассматривать произведение необходимо в рамках исторической ситуации, т.е. следует уделять внимание исторической интерпретации. Данная интерпретация предполагает мысленное перенесение истолкователя в эпоху автора и его отождествление с личностью автора. Историческая интерпретация должна была объяснить осознанные и бессознательные моменты, повлиявшие на авторский творческий процесс [6, с 131].
В трудах Шлейермахера, а позднее Дильтея, также указывается на необходимость истолкования художественного текста как результата соединения, совмещения самого произведения с жизнью автора, исторической ситуации с авторской биографией [2, с.108]. Но «в методе Шлейермахера нет связи прошлого с настоящим; не уделяется внимание (он попросту отсутствует) моменту новизны, привносимого интерпретатором, и этим исключается неисчерпаемость литературного произведения» [6, с. 132].
Как уже упоминалось ранее, каждый новый интерпретатор (или, говоря обыденным языком – читатель) в каждую новую историческую эпоху привносит свое собственное суждение о смысле того или иного художественного произведения. И действительно, очевидна «неисчерпаемость» смысла любого литературного произведения, которая существует как некая аксиома и не отменяется толкованием художественного текста. Об этом же говорит и Фуксон Л. Ю.: « В уникальных особенностях произведения… скрыт важный, внутренний, то есть актуальный лишь для данного произведения, смысл… Любая, по необходимости конечная формулировка неизбежно огрубляет и искажает смысл именно из-за его бесконечности» [9, с.11].
То бесконечное многообразие восприятий одного и того же художественного произведения обусловлено самим произведением, «ожиданием» того или иного смысла, которое возникает у реципиента лишь при беглом взгляде на художественный текст или даже на название. Об этом говорил Гадамер: «…проблеск смысла…появляется лишь благодаря тому, что текст читают с известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла» [1, с. 75]. Об этом же говорили и Лотман Ю.М., упоминая «априорно заданную структуру ожидания» и некие «контуры ожидания», а также Яусс Х.Р., который ввел понятие читательского «горизонта ожиданий» [11, с. 60].
Работа по истолкованию художественного текста – это общение с ним. Текст и реципиент все время обращаются друг к другу, как бы ведут между собой молчаливый диалог. По утверждению Зись А.Я., «сознание интерпретатора, обращенное к произведению, должно вопрошать так, чтобы знаковость обрела реальный смысл в актуальных жизненных структурах личности»[4, с. 94]. Каждое произведение требует определенных усилий от читателя, ведь для того, чтобы понять, нужно «услышать» само произведение, сделать так, чтобы само произведение «заговорило», а не просто суметь сформулировать свое «приватное мнение о произведении» [3, с. 176].
Для читателя работа по истолкованию текста является, прежде всего, работой по преодолению временной и культурной отдаленности, что ставит, в конечном итоге читателя на один уровень с чуждым поначалу текстом. В результате это позволяет включить смысл данного художественного текста в то понимание, каким обладает читатель в настоящий момент.
Следует отметить мысль Рикера, полагающего, что интерпретация – это «работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении. Так символ и интерпретация становятся соотносительными понятиями: интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов»[7, с. 19].
Рикер утверждает, что интерпретация является продлением давно ушедшего, высвечиванием традиции: «Традиция остается мертвой традицией, если она не является непрерывной интерпретацией. Наследие – сокровищница, откуда можно черпать пригоршнями и которая наполняется в самом этом процессе. Всякая традиция живет благодаря интерпретации, она остается живой традицией»[7, с. 38].
Очень часто поэты и писатели заимствуют своих героев из мифологии или библейских сюжетов и дают им новую жизнь. Чем ярче художественные образы, чем глубже след, оставленный произведением в истории мировой литературы, тем отчетливее видна связь с традицией. В качестве примера хотелось бы упомянуть одно из величайших литературных произведений XX века, каковым является «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Сам Пастернак считал этот роман вершиной своего творчества и в его главном герое без труда угадывается мировоззренческий образ автора с судьбой, схожей с биографией писателя. С позиции читателя многие видят в данном произведении еще одну попытку по-своему раскрыть Евангелие (так же, как это было сделано, скажем, в «Мастере и Маргарите»). Некоторые исследователи склонны интерпретировать главных героев этого произведения как библейских, а жизнь доктора как путь Иисуса на грешной земле. Другие авторы полагают, что Живаго – это символ русской интеллигенции, несмелой и нерешительной, не умеющей соответствовать исторической ситуации, «идти в ногу со временем»; находятся критики, разоблачающие самого Б. Пастернака, его «приспособленчество» в сталинскую эпоху и даже вменяющие ему в вину тот факт, что он выжил. Были у него оппоненты в советское время, найдутся и сейчас, но художественные достоинства произведения очевидны и вряд ли будут оспорены.
В «Докторе Живаго» смысл не существует наряду с чем-то иным, бессмысленным. Смысл есть всегда и его проявление непрерывно. Поэтому столь важно для автора устранение всех «лишних» деталей в процессе работы над произведением, поэтому так старался автор найти самые простые слова и обозначить ими явления самые сложные, поэтому так важно было избежать всего лишнего и «бессмысленного». Сколько прекрасных (и не очень) работ написано по исследованию этого произведения, и открытия все еще продолжаются. То же самое происходит со всеми художественными текстами. С течением времени смысл становится все более широким, открываются бескрайние просторы для дальнейших интерпретаций.
Смысл художественного произведения неотделим от конкретного образа, и невозможно в художественном произведении выразить лишь одну главную идею, «спрятав» ее за деталями. Каждая деталь, каждый образ помогает найти художественный смысл и подтверждает мнение о том, что художественный текст не содержит ничего случайного.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что всякий художественный текст понимается читателем через его интерпретацию. Понимание и интерпретация находятся между собой в тесной связи и не существуют один без другого. «Как понимание, интерпретация должна быть, с одной стороны, аналитическим и обобщающим знанием, дающим понятие о произведении, а с другой стороны, художественным восприятием и переживанием всех деталей интерпретации» [4, с. 99]. Для понимания художественного текста необходимо знание, получаемое в результате объяснения художественного произведения. Интерпретация привносит личностный момент в истолкование художественного произведения. Единство интерпретации и объяснения в процессе понимания дают наиболее глубокое истолкование художественного текста.
Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного: [пер. с нем.] / X .-Г.Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 366 с.
Дильтей В. Собр. соч.: в 6 т. / Вильгельм Дильтей; [под ред. А.В. Михайлова, Н.С. Плотникова]. – М.: Дом интеллектуальной кн., 2001. – Т. 4: Герменевтика и теория литературы. – 531 с.
Зельдмайр Г. Проблема интерпретации // Г. Зельдмайр. Искусство и истина. – Спб., 2000.
Зись А.Я. Интерпретация произведения как феномена культуры / А.Я. Зись, М.П. Стафецкая // Теории, школы, концепции: художественная рецепция и герменевтика. – М.: Наука, 1985. – С. 69-102.
Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества / Д.С.Лихачев. – СПб.: Блиц, 1999. – 160 с.
Незнамова С.П. Проблема понимания художественного текста и произведения [Электронный ресурс]: Дис…канд. филос. наук: 09.00.01. – М.: РГБ, 2005.
Рикер П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике / П.Рикер. – М.: Искусство, 1996. – 622 с.
Тисельтон Э. Герменевтика. Пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 430 с.
Фуксон Л. Ю. Чтение: учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 218 с.
Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи / Ф.Д. Шлейермахер. — СПб. : Алетейя, 1994. — 344 с.
Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение, 1995, №12, С. 60.
Источник