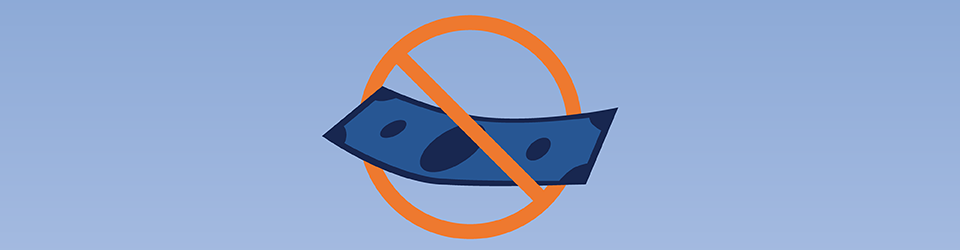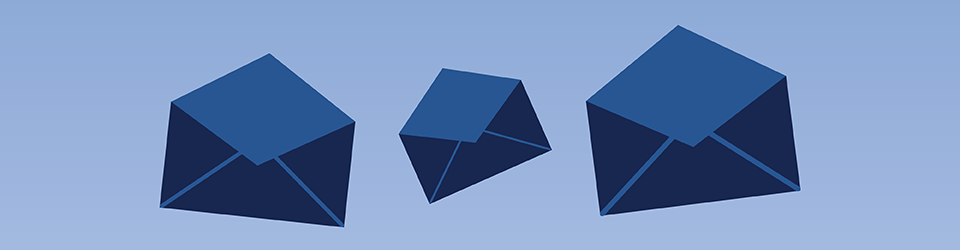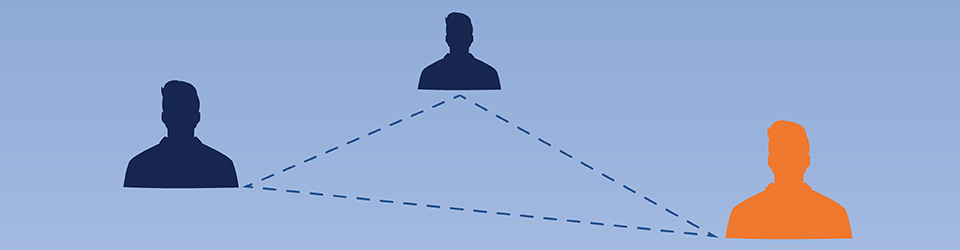Из §1 (Методы противодействия злоупотреблению правом в российском гражданском законодательстве) гл. 3 «докторской диссертации» (Противодействие злоупотреблению правом) [. ]
Из §1 (Методы противодействия злоупотреблению правом в российском гражданском законодательстве) гл. 3 «докторской диссертации» (Противодействие злоупотреблению правом).
Причины законодательного вмешательства в отношения со сложной динамикой с целью воспрепятствовать осуществлению прав (правомочий) при критическом (с позиций законодателя) снижении интереса, — явление, которое в этой диссертации именуется «нормативным методом противодействия злоупотреблению правом», — мы обсудим и оценим в §2 этой (третьей) главы нашей работы. Речь, собственно, пойдёт о том, почему, когда и в какой мере оправдан такой выбор метода противодействия злоупотреблению правом вместо судебного противодействия ему на основе общей нормы. В этом же разделе целесообразно обратиться к причинам, порождающим поводы для нормативного противодействия, то есть собственно к обстоятельствам, которые, будучи некоторым образом связаны с определённым этапом развития правоотношения, и особенно с динамикой длящегося договорного правоотношения, приводят к столь значительному снижению интереса обладателя субъективного права, а в договорном отношении — как правило, к сообразному повышению интереса контрагента, что его дальнейшее осуществление обернулось бы злоупотреблением этим правом. Проследить эту динамику и выявить критические точки несовместимости ослабленного интереса с предназначавшемся к его защите субъективным правом, провести проекции от этих значений в область позитивного права и сравнить их с существующими в нём границами, – задача цивилистической мысли в её аналитической миссии. Однако в успехе теории таких причин, т.е. в результатах исследования, ставящем целью обобщение и классификацию, мы готовы выразить осторожный скепсис. Вряд ли, впрочем, в нашей работе уместно ставить теоретическую задачу такого рода. Вместо этого мы считаем нужным привести наглядные примеры, способные создать сравнительно полную картину обсуждаемого явления.
Как уже очевидно из сказанного, обстоятельства, приводящие к такому критическому снижению интереса, не могут быть однородны. Они создаются и собственными действиями управомоченного, и его бездействием (как правило, в течение определенного законом срока), и действиями обязанной стороны, удовлетворяющий иной, но связанный с обсуждаемым интерес управомоченного. И, конечно, для договорного права органичны нормы, определяющие вменённые максимумы понижения интереса одной из сторон посредством нормативного вменения в названных законом случаях развития договорной связи столь преобладающего состояния интереса её контрагента, что интерес первой стороны в сохранении ранее действующего права в неизменном состоянии или даже в целом считается исчерпанным.
Этот ряд, казалось бы, можно продолжить указанием на то, что девиации, о которых мы говорим, могут быть следствием и изменившихся внешних сторонам обстоятельств, то есть не зависеть от их действий. Однако в области договорного права гражданское законодательство предпочитает не видеть в такого рода переменах повод для законодательной коррекции. Причина, конечно, заключается в том, что риски изменения обстоятельств, по общему правилу, должны приниматься сторонами договора, поскольку они предположительно охватываются той возможностью распознавания и выражения своих интересов в условиях договора, которая, как убеждён автор, и образует явление, достойное именоваться свободой договора. И только тогда, когда изменение обстоятельства, имеющего существенное значение для исполнения, имело место в области, до которой разумная способность к распознаванию и выражению субъектом своих интересов не простиралась, заинтересованная сторона может прибегнуть к clausula rebus sic stantibus, к специальному режиму, позволяющему на основании судебного акта исправить или расторгнуть договор, если то или другое необходимо для восстановления баланса интересов сторон. Подробнее об этом говорилось в § 4. гл. 1. Таким образом, изменившиеся обстоятельства могут дать повод для судебного, а не законодательного противодействия возможному злоупотреблению правом; в § 1.3. гл. 1 мы говорили о том, что судебное вмешательство в договорное правоотношение на основании clausula rebus sic stantibus является, возможно, самым значительным случаем легитимации интереса, пребывающего в поле общей дозволительности. Нет сомнений, что предпочтение судебного метода нормативному здесь оправдано: ведь речь пойдёт об изучении, а затем и об исправлении (вплоть до лишения силы) повреждённого договорного равновесия ввиду предположительной неспособности, в изменившихся обстоятельствах, согласованных сторонами условий рассматриваться как выражения их подлинных интересов; очевидно, что вменение абстрактной схемы для такого рода операций здесь было бы совершенно неприемлемо. В очень редких случаях в законе могут быть квалифицированы как существенно изменившиеся обстоятельства, для переоценки которых с точки зрения соответствия равновесия интересов действительно имеется повод в виде указанных в законе событий. Так, в соответствии с установленным в абз. 2 п. 6 ст. 709 правилом, подрядчик вправе требовать увеличения даже так наз. «твёрдой» цены при наступлении указанных в этой норме внешних для договора обстоятельств, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса. Очевидно, что в данном случае законодатель осуществляет частичное вменение сторонам интересов, по общему правилу подлежащих учёту при рассмотрении судебного спора об адаптации или расторжении договора ввиду существенной перемены обстоятельств наряду с другими интересами, закреплёнными в ст. 451 в виде правовых порогов для удовлетворения такого требования: во-первых, описанная в норме гипотеза уже квалифицирована как существенно изменившееся обстоятельство, во-вторых, в изъятие из правила подп. 1 п. 2 ст. 451 о том, что изменения должны быть непредвидимыми для обеих сторон, признаётся достаточным, что предусмотреть такое положение не могла бы заинтересованная сторона (т.е. подрядчик).
Из выдвинутого и раскрытого в предыдущем абзаце тезиса — существенное изменение внешних обстоятельств образует основание для судебного, а не нормативного противодействия злоупотреблению правом, — не является исключением то, что прекращение обязательства по невозможности исполнения основывается на установленном в законе правиле, не нуждающимся в применении судом для осуществления должником интереса в освобождении от исполнения. Прекращение обязательства в случаях, указанных в ст. 416 и 417 ГК, не является итогом исследования причин пошатнувшегося договорного равновесия, а именно, вывода о «неоперабельности» обнаруженного искажения; невозможность исполнения является объективным фактом, делающим ненужным какое-либо изучение интересов сторон обязательства, в том числе и уровень их осмотрительности с учётом распределения рисков, несмотря на явно неточную формулировку ст. 416[1].
Приведём, наконец, некоторые примеры применения законодателем обсуждаемого здесь метода противодействия злоупотреблению правом — законодательного вмешательства в отношения со сложной динамикой, осуществляемого путём вменения максимумов падения интереса в нормативно определённых обстоятельствах.
Можно начать с относительно простой ситуации. Ст. 612 в п. 2 закрепляет основания освобождения от ответственности арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества, но для нас важно только одно из них: отсутствие со стороны арендатора должной — для целей обнаружения этих недостатков — осмотрительности («недостатки […] должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду»). Отпадение субъективного права (корректнее говоря, правомочия) арендатора на средство защиты только в этом случае (из трёх, указанных в норме) является следствием снижения вменённого арендатору интереса в получении имущества без недостатков ниже вменённого максимального порога такого снижения; два других закреплённых в п. 2 ст. 612 основания освобождения от ответственности увязаны с условиями сделки и с бесконфликтностью намерений арендатора в отношении недостатков имущества как основания правопритязания, т.е. с его добросовестностью[2]ещё до исполнения обязательства арендодателем. И лишь несоответствие проверки имущества на предмет обнаружения недостатков цензу осмотрительности представляет собой оценку соотношения интересов в состоянии, которого они достигли после того, как имело место исполнение, имеющее для них существенное значение. Применённый законодателем здесь способ противодействия злоупотреблению правом может быть описан следующим образом: при достижении интереса арендатора в средствах защиты против сдавшего в аренду имущество ненадлежащего качества арендодателя вменённого максимума снижения в виде отсутствия должной осмотрительности при проведении проверки качества имущества этот интерес принимается снизившимся до уровня, на котором он уже не подлежит выражению в субъективном праве. Для соответствия применённому в этой конструкции стандарту долженствования, о котором мы подробно говорим в § 6.2.2. гл. 2 диссертации, достаточно совершения таких усилий по преодолению незнания о юридически значимом обстоятельстве, которые вытекают из действующего правового режима, включая обычаи оборота. Содержание этого стандарта, конечно, имеет имплицитное уточнение: для профессиональных и обычных участников оборота должны использоваться разные величины вменения осмотрительности.
Расположение критического максимума понижения интереса в применении средств защиты в отношении ненадлежащего качества сданного в аренду имущества на этапе проверки этого качества, как сказано выше, позволяет отнести эту технику регулирования к способам противодействия злоупотреблению ввиду того, что речь идёт о явной девиации от изначального предположения. Вместе с тем, это этап качественно более ранний, чем предусматривается для договора купли-продажи. Обнаружение недостатков для каузы купли-продажи становится предикатом формулы предъявления санкций в связи с ненадлежащим качеством по прошествии разумного, но, по общему правилу, не более чем двухлетнего срока после передачи товара (ст. 477 ГК и ст. 39 Венской Конвенции[3]). Более поздняя в динамике правоотношения по сравнению с арендой координата для определения критичности падения интереса выражает, конечно, различие кауз этих двух сделок. Арендатор рассматривается как «экономический собственник», с ударением на первое слово: если он вступает во владение арендованным имуществом, то следует считать, что делает он это исключительно в интересах создания условий по его использованию в соответствии с оговоренным или обычным для этого рода вещей назначением. Поэтому арендатор, не сумевший соответствовать стандарту долженствования (более низкому, чем стандарт осуществимости) по обнаружению в переданном ему имуществе недостатков, которые не позволят ему осуществить эти интересы, не может считаться и заинтересованным в применении средств защиты против арендодателя, передавшего имущество с такими недостатками. Покупатель, напротив, как лицо, приобретающее имущество в собственность, не может предполагаться заинтересованным в скорейшем и наиболее полном извлечении полезных свойств до степени, что это оправдывало бы вменение ему ценза осмотрительности при проверке имущества при его передаче для сохранения права на средства защиты против ненадлежащего качества. Покупателю, поэтому, предоставляется достаточно длительный период для обнаружения недостатков — а правильнее было бы сказать, срок для обнаружения интереса в таком использовании приобретённого товара, которое бы позволило ему обнаружить отклонения от предусмотренных договором требований к качеству. Эту конструкцию можно было бы назвать цензом рачительности. Необнаружение покупателем недостатков товара в рамках этого периода принимается вменённым максимумом падения интереса покупателя в средствах защиты против ненадлежащего качества. Снова отметим, что преклюзивные сроки являются широко применяемым гражданским законодательством орудием по нормативному противодействию злоупотреблению правом.
[1] Именно по этой причине российский законодатель обоснованно поместил норму о прекращении обязательства по невозможности его исполнения в подраздел 1 («Общие положения об обязательствах») раздела III ГК («Общая часть обязательственного права»), а clausula rebus sic stantibus — в подраздел 2 этого раздела («Общие положения о договоре»). Следует, однако, отметить, что соотношение этих двух институтов не является самоочевидным; так, английский институт frustration of contract явно обнимает и невозможность исполнения, и несовместимые с первоначальной волей сторон изменения обязательств, исходя в обеих случаях из разрушения каузы сделки; в ГГУ (ст. 313) оговорка rebus sic stantibus появилась только в 2002 г., а ранее применялась доктрина экономической невозможности в составе общего правила о невозможности исполнения (ст. 275), причём существенное изменение обстоятельств в германском праве трактуется, в соответствии с теориями XIX в., в ст. 313 ГГУ как разрушение каузы сделки (Störung или Wegfall der Geschäftsgrundlage); в Принципах международных коммерческих договоров УНИДРУА, в том числе 2016 г., имеется раздел 2 «Hardships», т.е. «затруднения» (ст. 6.2.1 — 6.2.3), причём статья 6.2.2. «Определение затруднения» даёт описание, сходное (хотя в чём-то и отличное) с российским подходом к институту изменившихся обстоятельств и по существу, и по легальному его воплощению, и даже по используемой для этого юридической технике. Однако при этом в «Принципах» нет норм о невозможности исполнения — след этого института можно найти только в правилах о форс-мажоре для целей определения ответственности сторон (7.1.7).
[2] В соответствии с теорией добросовестности, которая представлена в нашей диссертации.
[3] Конструкция, применённая в этой норме Конвенции, в российском ГК представлена в двух самостоятельных вменённых максимумах падения интереса покупателя в применении санкций в связи с ненадлежащим качеством товара: в ст. 477, предусматривающей предельные, для указанной цели, сроки обнаружения недостатков товара, и в ст. 483, устанавливающей, наряду с предельными сроками извещения продавца о недостатках, дополнительное условие для отпадения права покупателя на санкции — также затруднительность их устранения для продавца. К обеим нормам мы обращаемся в диссертации неоднократно.
Источник
Злоупотребления процессуальными правами: как отбиться от них в суде
Расплывчатость формулировок ГПК и АПК о возможности участия в деле третьих лиц, чьи права могут быть затронуты принятым по делу решением, открывает возможности для злоупотреблений, рассказывает адвокат Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Банкротство (включая споры) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Цифровая экономика группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Уголовное право Профайл компании × Евгений Зубков.
Недобросовестный оппонент может подавать многочисленные ходатайства о привлечении третьих лиц, пытаясь любым способом обосновать возможность изменения статуса таких лиц по отношению к сторонам спора. В случае удовлетворения судом подобной просьбы судебное разбирательство в любом случае будет подлежать отложению, а сроки рассмотрения дела «обнулятся».
Для того чтобы бороться с таким злоупотреблением, Зубков предлагает поставить себя на место оппонента и определить круг потенциальных третьих лиц, которых он может попытаться «добавить» в дело. После чего надо заблаговременно подготовить для суда аргументированное обоснование, почему оснований для привлечения третьих лиц не существует.
Еще один способ затянуть арбитражный процесс – заявить ходатайство о назначении экспертизы без предложения кандидатур экспертов, списка подлежащих разрешению вопросов и без внесения денег на депозит суда.
«Отбиться» от такого затягивания можно довольно просто, сославшись на Постановление Пленума ВАС № 23 от 4 апреля 2014 года (п. 22). «Нет денег на депозите – суд отклоняет ходатайство о назначении экспертизы», – объясняет юрист КА Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) Профайл компании × Маргарита Шульгина.
В споре о распространении порочащих сведений ответчик пытался привлечь учредителя и главного редактора издания, которое якобы являлось первоисточником сведений. Для этого оппонент предлагал запросить о них сведения у Роскомнадзора через суд, что затянуло бы процесс.
Представители истца в качестве возражений предоставили суду нотариальный осмотр с сервиса «Яндекс.Вебмастер», который помог установить, что первоисточником сведений был именно ответчик, рассказала Маргарита Шульгина.
Случается, что недобросовестные участники судебного разбирательства используют такой прием, как неполное предоставление документов и процессуальных документов лицам, участвующим в деле. Участники спора могут направить другим лицам пустые конверты, положить в конверт чистые листы либо только первую страницу.
В таких ситуациях эффективным способом борьбы является документальная фиксация вскрытия конверта. Например, у нотариуса, который может составить соответствующий протокол. Представление суду доказательств такого недобросовестного поведения оппонента может серьезно повлиять на ход судебного разбирательства, отмечает Рустам Курмаев, управляющий партнер Рустам Курмаев и партнеры Рустам Курмаев и партнеры Федеральный рейтинг. группа Уголовное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции 1 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 6 место По выручке Профайл компании × .
Дмитрий Якушев, адвокат АБ Андрей Городисский и партнеры Андрей Городисский и партнеры Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Профайл компании × , помогал взыскать долг по договору займа. Этот типовой спор был осложнен тем, что в соглашении перепутали стороны: истца указали как заемщика, а ответчика – как займодавца. Вторая сложность заключалась в том, что в платежном поручении, по которому доверитель адвоката перечислял ответчику средства, отсутствовала ссылка на этот договор, но при этом сумма совпадала с текстом документа.
Ответчик решил воспользоваться этим, заявил встречный иск и показал суду другое соглашение, в котором уже он выступал займодавцем, а первоначальный истец – заемщиком.
Позиция ответчика заключалась в том, что стороны в обоих договорах были указаны корректно, и именно ответчик планировал предоставить истцу ряд займов, но по причине срыва переговоров не сделал этого. Факт получения денег ответчик обосновал ошибочным платежом и указал, что надлежащим способом защиты права является иск о взыскании неосновательного обогащения, а не требование о выплате долга по договору займа.
Сначала суд засомневался в том, что в первом соглашении действительно была опечатка и даже вызвал в качестве свидетелей гендиректоров истца и ответчика, рассказывает Якушев. «Но я оперативно заявил ходатайство о фальсификации второго договора займа, а экспертиза ожидаемо его фальсификацию подтвердила. Суд после этого перестал воспринимать доводы ответчика всерьез и удовлетворил иск, согласившись с моим доводом об опечатке», – рассказал юрист.
В ходе апелляции в гражданском процессе возможны ситуации, когда для затягивания процесса внезапно появляются третьи лица, заявляющие о нарушении своих прав принятым по делу решением суда. Они подают апелляционную жалобу и заявление о восстановление срока. По словам Рустама Курмаева, это обычно происходит непосредственно перед судебным заседанием в апелляции, а оппоненты и суд узнают об этом уже в самом заседании.
В таком случае дело нельзя рассмотреть – апелляция должна вернуть материалы в первую инстанцию для разрешения вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока и направления всех жалоб вместе с делом в апелляцию.
В таких случаях Курмаев советует подготовить мотивированные письменные возражения относительно снятия дела с апелляционного рассмотрения. Надо убедить суд, что поданная жалоба третьим лицом направлена исключительно на затягивание процесса, а сам апеллянт при этом никакого отношения к делу не имеет.
Эксперт советует ссылаться на разъяснения Пленума ВС по правилам обжалования, согласно которым даже после разбирательства в апелляции возможно повторное рассмотрение дела по апелляционной жалобе другого лица, не привлеченного к участию в деле.
Зачастую оппоненты, имея намерение затянуть процесс, подают встречный иск на заключительных заседаниях, рассказывает Евгений Зубков.
Для воспрепятствования такому злоупотреблению необходимо обосновать суду, почему отсутствуют условия для заявления встречного иска. Они прописаны и в ГПК (ст. 138), и в АПК (ст. 132). Например, если для встречного иска потребуется исследовать другие доказательства – суд не должен принимать его к рассмотрению.
Кроме того, в арбитражном процессе можно сослаться на ч. 5 ст. 159 АПК, которая говорит о том, что не подлежат удовлетворению заявления и ходатайства, явно направленные на затягивания процесса. Участник дела имеет возможность обратиться со встречным иском еще на первоначальной стадии. Если оппонент не объяснит, почему встречный иск подан только спустя длительное время и именно в рамках данного дела, а не отдельно – его заявление рассматриваться не будет. Поэтому целесообразно требовать объяснений от оппонента.
В этом случае Зубков советует обращать внимание суда на то обстоятельство, что возвращение встречного иска никак не нарушает права заявителя, так как последний в любом случае может обратиться с требованием к «первоначальному истцу» отдельно.
Недобросовестный участник процесса может заявлять в первой инстанции заведомо необоснованные ходатайства о передаче дела на рассмотрение другого суда. Вынесенное первой инстанцией «отказное» определение можно обжаловать, и дело в таком случае отправится в суд апелляционной инстанции. Из-за этого первая инстанция должна будет отложить рассмотрение дела по существу, отмечает Евгений Зубков.
Помочь в борьбе с таким злоупотреблением могут уже представленные, но пока не принятые разъяснения апелляционного процесса по ГПК от Пленума ВС. В проектируемом постановлении есть правило, которое разрешает направлять в суд апелляционной инстанции не все дело, а лишь сформированный по частной жалобе материал. Он будет состоять из оригинала частной жалобы, подлинника обжалуемого определения суда первой инстанции, а также заверенных судом первой инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов.
«Стоит, однако, помнить, что составление такого отдельного материала для направления в суд апелляционной инстанции является правом, а не обязанностью суда», – предупреждает Зубков.
Источник