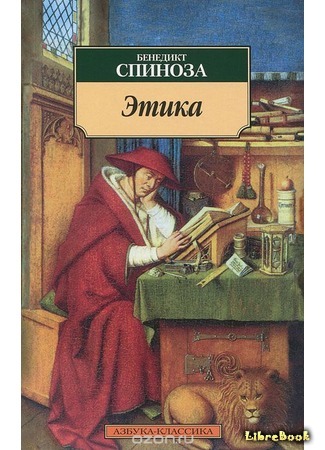- IV «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей»
- Электронная книга Этика | Ethics, Demonstrated in Geometrical Order | Ethica, ordine geometrico demonstrata
- Информация о книге
- Произведение Этика полностью
- Читать онлайн Этика
- Часть первая
- Теорема 1
- Теорема 2
- Теорема 3
- Теорема 4
- Теорема 5
- Теорема 6
- Теорема 7
- Теорема 8
- Теорема 9
- Теорема 10
- Теорема 11
- Теорема 12
- Теорема 13
- Теорема 14
- Теорема 15
- Теорема 16
- Теорема 17
- Теорема 18
- Теорема 19
- Теорема 20
- Теорема 21
- Теорема 22
- Теорема 23
- Теорема 24
- Теорема 25
- Теорема 26
- Теорема 27
- Теорема 28
- Теорема 29
- Теорема 30
- Теорема 31
- Теорема 32
- Теорема 33
- Теорема 34
- Теорема 35
- Теорема 36
- Прибавление
IV «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей»



В своей работе «Этика» Спиноза рассматривает три отдельных вопроса. Она начинается с метафизики, потом переходит к психологии аффектов и воли и, наконец, излагается этика, основанная на ранее изложенных метафизике и психологии. Метафизика Спинозы является видоизменением метафизики Декарта, психология же напоминает психологию Гоббса, но этика у него оригинальна и является самым ценным из того, что есть в книге. Спиноза в основном интересовался религией и добродетелью. От Декарта и его современников он воспринял материалистическую и детерминистскую физику и пытался в этих рамках найти место для благоговения и жизни, посвященной Богу.
Метафизическая система Спинозы принадлежит к типу, начало которому положил Парменид. Существует только одна субстанция:»Бог или природа», — и ничто, что ограничено, не является самосуществующим. Мышление и протяженность были атрибутами Бога. Согласно Спинозе, все в мире управляется абсолютной логической необходимостью. Нет такой вещи, как свобода воли в духовной сфере или случайность в мире физическом. Все, что случается, есть проявление непостижимой природы Бога, и логически невозможно, чтобы события были иными, нежели они есть. Это ведет к трудностям в отношении греха, на что не замедлили указать критики. Один из них, отмечая, что, согласно Спинозе, все идет от Бога и поэтому является благом, негодующе спрашивает: было ли благом то, что Нерон убил свою мать? Было ли благом то, что Адам съел яблоко? Спиноза отвечал, что то, что было положительным в этих действиях, было благом, и только то, что было отрицательным, было злом; но отрицательное существует только с точки зрения конечных созданий. В Боге же, кто единственно полностью реален, нет отрицательного, и поэтому зла, которым нам кажутся грехи, не существует, когда их рассматривают как часть целого.
Это учение, хотя оно в той или иной форме поддерживалось большинством мистиков, очевидно, не может совпасть с официальным церковным учением относительно греха и проклятия. Оно тесно связано с полным отрицанием свободы воли Спинозой. Хотя Спиноза ни в коей мере не был любителем споров, однако он был слишком честен, чтобы прятать свои взгляды, какими бы ужасными они ни казались для современников; поэтому неприязнь к его учению не была удивительной.
«Этика» излагается в стиле геометрии Евклида, с определениями, аксиомами и теоремами; предполагается, что все, что следует за аксиомами, должно быть строго доказано дедуктивным способом, что делает эту работу трудной для чтения. Мы не можем принять его метод, но это происходит потому, что мы не можем принять его метафизики. Мы не можем поверить что взаимосвязи частей Вселенной — логические, потому что мы считаем, что научные законы должны быть раскрыты наблюдением, а не одним размышлением.
За метафизическим обсуждением природы и происхождения ума следует теория аффектов Спинозы, которая приводит к удивительной теореме о том, что «человеческий ум имеет адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога». Но страсти, которые обсуждаются в третьей части «Этики», отвлекают нас и мешают нашему интеллектуальному видению целого. Нам сообщается, что «всякая вещь, насколько она является сама собой, стремится пребывать в своем существовании (бытии)». Отсюда возникают любовь, ненависть и борьба. Психология в части третьей целиком эгоистична: «Кто увидит, что то, что он ненавидит, уничтожается, будет чувствовать удовольствие». — «Если мы увидим, что кто-либо получает удовольствие от чего-либо, владеть чем может только он один, то мы будем стремиться сделать так, чтобы он не владел этим». Но даже в этой части имеются моменты, когда Спиноза отбрасывает вид математически доказанного цинизма, например, когда он говорит: «Ненависть увеличивается вследствие взаимной ненависти и, наоборот, может быть уничтожена любовью». Согласно Спинозе, самосохранение является основным мотивом страстей.
Аффекты. Учение об эмоциях, или аффектах, играет для самого Спинозы первостепенную роль в философии (доказать способность разума сопротивляться аффектам — основная задача «Этики»). Аффектом называется как состояние человеческой души, имеющей смутные или неясные идеи, так и связанное с этим состояние человеческого тела. Основных аффектов, переживаемых человеком, три: удовольствие, неудовольствие и желание. Аффекты, возникнув от тех или иных причин, могут слагаться друг с другом многочисленными способами, образуя все новые и новые разновидности аффектов, страстей. Их разнообразие вызывается не только природой того или иного объекта, но и природой самого человека. Власть аффектов над людьми увеличивается вследствие всеобщего предрассудка, будто люди свободно владеют своими страстями и могут в любой момент от них избавиться. Аффекты-страсти могут заполнять все сознание человека, упорно преследовать его, вплоть до того, что находящийся под их воздействием человек, даже видя перед собой лучшее, будет вынужден следовать худшему. Бессилие человека в борьбе со своими страстями Спиноза называет рабством.

V «Любовь к Богу должна всего более наполнять душу»
Понимание того, что все вещи необходимы, помогает нашему уму достигнуть власти над аффектами. «Познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо любит Бога, и тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты». Это утверждение подводит нас к «интеллектуальной любви к Богу», в чем и заключается мудрость. Интеллектуальная любовь к Богу — это соединение мысли и эмоции: оно состоит в истинном мышлении вместе с радостью постижения истины. Вся радость в истинном мышлении — это часть интеллектуальной любви к Богу, так как она не содержит ничего отрицательного и является поэтому поистине частью целого, но не только кажущейся, как это случается с отдельными вещами, которые настолько отделены в мысли, что кажутся злом.
«Любовь к Богу, — говорят нам, — должна всего более наполнять душу».
Доказательство вышеуказанной теоремы следующее:
«Эта любовь (по т. 14) находится в связи со всеми состояниями тела, которые все способствуют ей (по т. 15). А потому (по т. 11) она все более должна наполнять душу; что и требовалось доказать».
В теореме (14, ч. V), к которой отсылало вышеупомянутое доказательство, говорится: «Душа может достигнуть того, что все состояние тела или образы вещей будут относиться к идее Бога»; теорема 15, цитированная выше, утверждает: «Познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо любит Бога, и тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты»; теорема 11 утверждает: «Чем к большему числу вещей относится какой-либо образ, тем он постояннее, иными словами — тем чаще он возникает и тем более владеет душой».
«Доказательство», цитированное выше, можно было выразить следующими образом: всякое углубление и понимание того, что случается с нами, состоит в отнесении событий к идее Бога, так как в действительности все является частью Бога. Это понимание всего как части Бога есть любовь к Богу. Когда все объекты будут отнесены к Богу, идея Бога полностью овладеет душой.
«Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог в свою очередь любил его» — здесь есть логическое следствие из метафизики Спинозы. Он не говорит, что человек не должен хотеть, чтобы Бог любил его, он говорит, что человек, который любит Бога, не может хотеть, чтобы Бог любил его. Это ясно из доказательства, которое гласит: «Если бы человек стремился к этому, то значит (по кор. т. 17) он желал бы, чтобы Бог, которого он любит, не был Богом, и, следовательно, (по т. 19, ч. III), желал бы подвергнуться неудовольствию, а это (по т. 28, ч. III) нелепо». Теорема 17, на которую мы уже ссылались и которая гласит, что Бог не подвержен никакому аффекту удовольствия или неудовольствия; королларий, на который мы ссылались выше, утверждает, что Бог никого не любит и ни к кому не питает ненависти. Здесь снова то, что подразумевается, не является этической предпосылкой, а является логической необходимостью человек, который любил бы Бога и желал бы, чтобы Бог его любил, тем самым желал бы подвергнуться неудовольствию, «что является нелепостью».
Утверждение, что Бог не может никого любить, не следует рассматривать как противоречие утверждению, что Бог любит Себя бесконечной интеллектуальной любовью. Он может любить Себя, так как это возможно без ложной веры, и, во всяком случае, интеллектуальная любовь — это весьма специфический вид любви.
«Этика» заканчивается такими словами:
«Мудрый как таковой едва ли подвергнется какому-либо душевному волнению; познавая с некоторой вечной необходимостью себя самого, Бога и вещи, он никогда не прекращает своего существования, но всегда обладает истинным душевным удовлетворением. Если же путь, который, как я показал, ведет к этому, и кажется весьма трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особого труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасное так же трудно, как и редко».
Спиноза хотел показать, как можно жить благородно даже тогда, когда мы признаем пределы человеческой власти. Он сам своей доктриной необходимости делает эти пределы уже, чем они есть; но когда они несомненно существуют, принципы Спинозы, вероятно, лучшее из всего, что возможно. Возьмем, например, смерть: ничто из того, что человек может сделать, не сделает его бессмертным, и поэтому бесполезно тратить время на страхи и стенания над тем фактом, что мы должны умереть. Мучиться страхом смерти — это вид рабства; Спиноза прав, говоря, что «человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти». Но даже в этом случае так нужно рассматривать только смерть вообще; смерть же от любой конкретной болезни следует по возможности предотвращать обращением к медицине. Чего нужно избегать даже в этом случае, это какого-то беспокойства и ужаса; нужно спокойно принять необходимые меры, а наши мысли, насколько это возможно, нужно направить на другие дела. Те же соображения применяются и ко всем другим чисто личным несчастьям.
Источник
Электронная книга Этика | Ethics, Demonstrated in Geometrical Order | Ethica, ordine geometrico demonstrata
Если не работает, попробуйте выключить AdBlock
Вы должны быть зарегистрированы для использования закладок
Информация о книге
Произведение Этика полностью
Читать онлайн Этика
Юный М.Ю. Лермонтов активно увлекался творчеством французских романтиков, поэтому его ранние стихотворения похожи на лирические исповеди или записи из личного дневника. Молодой поэт искусно играет абсолютно разными мотивами: от общественно-политических до философских и интимных.
Стихотворение «1830. Майя. 16 число» является образцом ранней лирики М.Ю. Лермонтова. Основу сюжета составляет тема смерти, в контексте которой поэт развивает и усиливает мотивы поэтического творчества, судьбы Родины и предназначения человека. Главный герой лирично размышляет о смерти, о судьбе певца, о разрушениях на земле родной, и все эти раздумья в произведении плавно гармонично переплетаются, перетекая из одного в другое. Также обращает на себя внимание интонация произведения – в нем много восклицательных и вопросительных предложений, что, безусловно, привносит оживляющие нотки в монолог героя, передавая его эмоции ярко и выразительно.
В своем произведении поэт использует преимущественно перекрестную и кольцевую рифму. Также в стихотворении имеются мужские и женские рифмы. Стихотворный размер произведения – четырехстопный ямб.
Источник
Часть первая
Теорема 1
Субстанция по природе первое своих состояний.Доказательство. Это ясно из определений 3 и 5.
Теорема 2
Две субстанции, имеющие различные атрибуты, не имеют между собой ничего общего.
Доказательство. Это также ясно из опр. 3, ибо каждаясубстанция должна существовать сама в себе и быть представляема сама через себя, иными словами, представлениеодной не заключает в себе представления другой.
Теорема 3
Вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной одна другой.
Доказательство. Если они не имеют между собой ничего общего, то они не могут быть и познаваемы одна черездругую (по акс. 5), и, следовательно, одна не может бытьпричиной другой (по акс. 4); что и требовалось доказать.
Теорема 4
Две или более различные вещи различаются между собой или различием атрибутов субстанций или различием их модусов (состояний).
Доказательство. Все, что существует, существует или самов себе или в чемлибо другом (по акс. 1), т. е. вне ума(extra intellectum) нет ничего кроме субстанций и их состояний (модусов) (по опр. 3 и 5). Следовательно, вне уманет ничего, чем могли бы различаться между собой несколько вещей, кроме субстанций, или — что то же (по опр. 4) — их атрибутов и их модусов; что и требовалосьдоказать.
Теорема 5
В природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же природы, иными словами, с одним и тем же атрибутом.
Доказательство. Бели бы существовало несколько различных субстанций, то они должны были бы различатьсямежду с.обой или различием своих атрибутов, или различием своих модусов (по предыдущей теореме). Если предположить различие атрибутов, то тем самым будет допущено, что с одним и тем же атрибутом существует толькоодна субстанция. Если же это будет различие состояний(модусов), то, оставив эти модусы в стороне, так как (пот. 1) субстанция по своей природе первее своих модусов, ирассматривая субстанцию в себе, т. е. сообразно с ее истинной природой (опр. 3 и акс. 6), нельзя будет представлять,чтобы она была отлична от другой субстанции, т. е. (попред, т.) не может существовать несколько таких субстанций, но только одна; что и требовалось доказать.
Теорема 6
Одна субстанция не может производиться другой субстанцией.
Доказательство. В природе вещей не может существовать двух субстанций с одним и тем же атрибутом (пот. 5), т. е. (по т. 2) субстанций, имеющих между собойчтолибо общее. Следовательно (по т. 3), одна субстанцияне может быть причиной другой, иными словами — однане может производиться другой; что и требовалось доказать.
Королларий. Отсюда следует, что субстанция чемлибоиным производиться не может. В самом деле, в природевещей не существует ничего кроме субстанций и их модусов (как это ясно из акс. 1 и опр. 3 и 5). А (по пред, т.)другой субстанцией субстанция производиться не может.
Следовательно, субстанция безусловно ничем иным производиться не может; что и требовалось доказать.
Другое доказательство. Еще легче доказывается это изневозможности противного. Ибо если бы субстанция могла производиться чемлибо иным, то ее познание должнобыло бы зависеть от познания ее причины (по акс. 4) и,следовательно, она не была бы субстанцией (по опр. 3).
Теорема 7
Природе субстанции присуще существование.
Доказательство. Субстанция чемлибо иным производиться не может (по кор. пред. т.). Значит, она будет причиной самой себя, т. е. ее сущность необходимо заключает всебе существование (по опр. 1), иными словами, — ее природе присуще существовать; что и требовалось доказать.
Теорема 8
Всякая субстанция необходимо бесконечна.
Доказательство. Субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна (по т. 5), и ее природеприсуще существование (по т. 7). Итак, ее природе будетсвойственно существовать или как конечной, или как бесконечной. Но конечной она быть не может, так как в таком случае (по опр. 2) она должна была бы ограничиваться другой субстанцией той же природы, которая так женеобходимо должна была бы существовать (по т. 7); таким образом, существовали бы две субстанции с одним итем же атрибутом, а это (по т. 5) невозможно. Следовательно, субстанция существует как бесконечная; что и требовалось доказать.
- Схолия 1. Так как конечное бытие в действительностиесть в известной мере отрицание, а бесконечное — абсолютное утверждение существования какойлибо природы, то прямо из т. 7 следует, что всякая субстанция бесконечна.
- Схолия 2. Я не сомневаюсь, что всем, которые имеют овещах спутанные суждения и не привыкли познавать вещи в их первых причинах, будет трудно понять доказательство т. 7; потому, конечно, что они не делают различия между модификациями субстанций и самими субстанциями и не знают, каким образом вещи производятся.Отсюда выходит, что, видя начало у естественных вещей,они ложно приписывают его и субстанциям. Ибо тот, ктоне знает истинных причин вещей, все смешивает и безвсякого сопротивления со стороны своего ума воображает,что деревья могут говорить так же, как люди, что людимогут образовываться из камней точно так же, как ониобразуются из семени, и что всякая форма может изменяться в какую угодно другую. Точно так же и тот, ктосмешивает Божественную природу с человеческой, легкоприписывает Богу человеческие аффекты, особенно покаему неизвестно, каким образом эти аффекты возникаютв душе. Напротив, если бы люди обращали внимание наприроду субстанции, то у них не осталось бы никакогосомнения в истинности т, 7; мало того — эта теорема стала бы для всех аксиомой и стояла бы в числе общепризнанных истин. Ведь тогда под субстанцией понимали быто, что существует само в себе и представляется само черезсебя, т. е. то, познание чего не требует познания другойвещи; а под модификациями понимали бы то, что существует в другом и представление чего образуется из представления о той вещи, в которой они существуют. Поэтомумы можем иметь верные идеи и о несуществующих модификациях, ибо хотя вне ума они в действительности и несуществуют, однако их сущность таким образом заключается в чемлибо другом, что они могут быть представляемычерез это другое. Истина же субстанций вне ума заключается только в них самих, потому что они представляютсясами через себя. Таким образом, если кто скажет, что онимеет ясную и отчетливую, т. е. истинную, идею о субстанции, но тем не менее сомневается, существует ли таковаясубстанция, то это будет, право, то же самое, как если б онсказал, что имеет истинную идею, но сомневается, однако,не ложная ли она (как это ясно всякому, кто достаточновдумается в это). Точно так же, если кто утверждает, чтосубстанция сотворена, то вместе с этим он утверждает, чтоложная идея сделалась истинной, а бессмысленнее этого, конечно, ничего нельзя себе и представить. Итак, должнопризнать, что существование субстанции, так же как и еесущность, есть вечная истина..
Отсюда мы можем иным путем прийти к тому заключению, что субстанция одной и той же природы существуеттолько одна, и я счел не лишним показать здесь это. Чтобы сделать это в порядке, должно заметить 1), что правильное определение какойлибо вещи не заключает в себеи не выражает ничего, кроме природы определяемой вещи.Отсюда следует 2), что никакое определение не заключаетв себе и не выражает какоголибо определенного числаотдельных вещей, так как оно выражает единственно только природу определяемой вещи. Так, например, определение треугольника выражает только природу треугольника,а не какоелибо определенное число треугольников. 3) Должно заметить, что для каждой существующей вещи необходимо есть какаялибо определенная причина, по которойона существует. 4) Наконец, нужно заметить, что эта причина, в силу которой какаялибо вещь существует, илидолжна заключаться в самой природе и определении существующей вещи (именно в силу того, что существованиеприсуще ее природе), или же должна находиться вне ее. Изэтих положений следует, что если в природе существуеткакоелибо определенное число отдельных вещей, то необходимо должна быть причина, почему существует именноэто число их, а не больше и не меньше. Если, например, вприроде существует 20 человек (для большей ясности яполагаю, что они существуют в одно время и что ранееникаких других людей в природе не существовало), тодля того, чтобы дать основание, почему существуют 20человек, недостаточно будет указать на причину человеческой природы вообще, но сверх этого необходимо будетуказать причину, почему существуют именно 20, а не более,не менее, так как (по замеч. 3) для всего необходимо должнабыть причина, почему оно существует. Но эта причина неможет заключаться в самой человеческой природе (по замеч. 2 и 3), так как правильное определение человека незаключает в себе число 20. Следовательно (по замеч. 4),причина, почему существуют эти 20 человек и, далее, почему существует каждый из них, необходимо должна находиться вне каждого из них. Отсюда вообще должно заключить, что все, чьей природы может существовать несколькоотдельных единиц, необходимо должно иметь внешнююпричину для их существования. Так как затем природесубстанции (как показано в этой сх.) свойственно существовать, то ее определение должно заключать в себе необходимое существование и, следовательно, из простого определения ее можно заключать о ее существовании, но из ееопределения (как мы уже показали в замеч. 2 и 3) неможет вытекать существование нескольких субстанций.Следовательно, из него необходимо вытекает, что субстанция одной и той же природы существует только одна; чтои требовалось доказать.
Теорема 9
Чем более какаялибо вещь имеет реальности или бытия (esse), тем более присуще ей атрибутов.Доказательство. Это ясно из опр. 4.
Теорема 10
Всякий атрибут одной субстанции должен быть представляем сам через себя.
Доказательство. Атрибут есть то, что разум представляет в субстанции как составляющее ее сущность (по опр. 4);следовательно, он должен быть представляем сам черезсебя (по опр. 3); что и требовалось доказать.
Схолия. Отсюда ясно, что, хотя два атрибута представляются реально различными, т. е. один без помощи другого, однако из этого мы не можем заключать, что они составляют два существа или две различные субстанции.Природа субстанции такова, что каждый из ее атрибутовпредставляется сам через себя, так как все атрибуты, которые она имеет, всегда существовали в ней вместе, и ни одиниз них не мог быть произведен другим, но каждый выражает реальность или бытие субстанции. Следовательно, далеко не будет нелепым приписывать одной субстанции не
сколько атрибутов. Напротив — в природе нет ничего более ясного, как то, что всякое существо должно быть представляемо под какимлибо атрибутом, и чем более оно имеет реальности или бытия, тем более оно должно иметь иатрибутов, выражающих и необходимость, или вечность, ибесконечность. Следовательно, нет ничего яснее того, чтосущество абсолютно бесконечное необходимо должно бытьопределяемо (как мы показали это в опр. 6) как существо, состоящее из бесконечно многих атрибутов, из которыхкаждый выражает некоторую вечную и бесконечную сущность. Если же спросят, по какому признаку можем мыузнать различие субстанций, то пусть прочитают следующие теоремы, показывающие, что в природе вещей существует только одна субстанция и что она абсолютно бесконечна, а потому и искать такого признака было бы тщетно.
Теорема 11
Бог, или субстанция, состоящая из бесконечно многихатрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность, необходимо существует.
Доказательство 1. Если кто с этим не согласен, пустьпредставит, если это возможно, что Бога нет. Следовательно (по акс. 7), его сущность не заключает в себе существования. Но это (по т. 7) невозможно. Следовательно, Богнеобходимо существует; что и требовалось доказать.
Доказательство 2. Для всякой вещи должна быть причина или основание (causa seu ratio) как ее существования,так и несуществования. Если, например, существует треугольник, то должно быть основание или причина, почемуон существует; если же он не существует, то также должнобыть основание или причина, препятствующая его существованию или уничтожающая его. Это основание или причина должна заключаться или в природе данной вещи иливне ее. Так, например, собственная природа круга показывает, почему нет четвероугольного круга; именно потому, чтоон заключает в себе противоречие. Напротив, существование субстанции вытекает прямо из ее природы, которая,следовательно, заключает в себе существование (см. т. 7).
Основание же существования или несуществования кругаили треугольника следует не из их природы, но из порядкавсей телесной природы. Из этого порядка должно вытекать,что этот треугольник или необходимо уже существует, иличто его существование в настоящее время невозможно. Этопонятно само собой. Отсюда следует, что необходимо существует то, для чего нет никакого основания или причины, которая препятствовала бы его существованию. Следовательно, если не может быть никакого основания илипричины, препятствующей существованию Бога или уничтожающей его существование, то из этого следует заключить, что он необходимо существует. Но если бы такоеоснование или причина существовала, то она должна былабы заключаться или в самой природе Бога, или вне ее, т. е.в иной субстанции иной природы, — так как, если бы последняя была той же природы, то тем самым допускалосьбы, что Бог существует. Субстанция же иной природы немогла бы иметь с Богом ничего общего (по т. 2) и потомуне могла бы ни полагать его существования, ни уничтожать его. Следовательно, так как основание или причина,которая уничтожала бы существование Бога, не может находиться вне Божественной природы, то, если только онасуществует, она необходимо должна заключаться в самойего природе, которая, таким образом, заключала бы в себепротиворечие. Но утверждать это о существе абсолютнобесконечном и наисовершеннейшем — нелепо. Следовательно, ни в Боге, ни вне Бога нет основания или причины,которая уничтожала бы его существование, и потому Богнеобходимо существует; что и требовалось доказать.
Доказательство 3. Возможность не существовать естьнеспособность; напротив, возможность существовать — способность. Если таким образом то, что уже необходимосуществует, суть только существа конечные, то последние,следовательно, могущественнее, чем существо абсолютнобесконечное: а это (само собой ясно) — нелепость. Следовательно, или ничего не существует, или существует также и существо абсолютно бесконечное. Однако сами мысуществуем или сами в себе, или в чемлибо другом, необходимо существующем (см. акс. 1 и т. 7). Следовательно, и существо абсолютно бесконечное, т. е. (по опр. 6) Бог,необходимо существует; что и требовалось доказать.
Схолия. В этом последнем доказательстве я хотел показать существование Бога a posteriori, дабы это доказательство можно было легче усвоить, а вовсе не потому,чтобы существование Бога не вытекало из того же самогооснования a priori. Ибо так как возможность существовать есть способность, то отсюда следует, что, чем болееприрода какойлибо вещи имеет реальности, тем более имеет она своих собственных сил к существованию. Следовательно, существо абсолютно бесконечное, или Бог, имеет отсамого себя абсолютно бесконечную способность существования и поэтому безусловно существует. Однако, можетбыть, многие не легко поймут очевидность этого доказательства, так как они привыкли иметь перед собой толькотакие вещи, которые происходят от внешних причин: онивидят, что те из этих вещей, которые скоро происходят,т. е. которые легко вызываются к существованию, легко иуничтожаются, и наоборот, считают те вещи более трудными для совершения, т. е. не так легкими для осуществления, природа которых, по их представлению, более сложна.Но для того чтобы освободить их от этих предрассудков,мне нет нужды показывать здесь ни того, в каком смыслеистинно означенное изречение: quod citо fit cito perit (чтоскоро происходит, то скоро и уничтожается), ни того, всели в отношении ко всей природе одинаково легко или нет;достаточно заметить только, что я говорю здесь не о вещах, происходящих от внешних причин, но только о субстанциях, которые (по т. 6) никакой внешней причинойпроизводимы быть не могут. Вещи, происходящие от внешних причин, состоят ли они из большого или малого числачастей, всем своим совершенством или реальностью, какую они имеют, обязаны могуществу внешней причины, и,следовательно, существование их возникает вследствие одного только совершенства внешней причины, а не совершенства их самих. Напротив, субстанция всем совершенством, какое она имеет, не обязана никакой внешней причине,вследствие чего и существование ее должно вытекать изодной только ее природы, которая поэтому есть не что иное, как ее сущность. Итак, совершенство не уничтожаетсуществования вещи, а скорее полагает его. Напротив, несовершенство уничтожает его, и, следовательно, ничье существование не может быть нам известно более, чем существование существа абсолютно бесконечного или совершенного,т. е. Бога. В самом деле, так как его сущность исключаетвсякое несовершенство и заключает в себе абсолютное совершенство, то тем самым она уничтожает всякую причинусомневаться в его существовании и делает его в высшейстепени достоверным. Я уверен, это будет ясно для всякого’скольконибудь внимательного читателя.
Теорема 12
Ни из одного правильно представляемого атрибутасубстанции не может следовать, чтобы субстанция могла быть делима.
Доказательство. Части, на которые разделилась бы представляемая таким образом субстанция, или удержат природу субстанции, или нет. В первом случае (по т. 8) всякаячасть должна будет быть бесконечной, составлять причинусамой себя (по т. 6) и (по т. 5) состоять из атрибута, отличного от атрибута первой субстанции и всех других. Следовательно, из одной субстанции может образоваться несколько,а это (по т. 6) невозможно. Кроме того, части (по т. 2) небудут иметь ничего общего со своим целым, а целое (поопр. 4 и т. 10) будет иметь способность и существовать ибыть представляемо без своих частей, а что это нелепо — вэтом никто не может сомневаться. Если предположить второе, т. е. что части не удержат природу субстанции, то, послетого как вся субстанция разделилась бы на равные части,она утратила бы природу субстанции и перестала бы существовать, что (по т. 7) невозможно.
Теорема 13
Субстанция абсолютно бесконечная неделима.Доказательство. Если бы она была делима, то части, накоторые она разделилась бы, или удержат природу абсолютно бесконечной субстанции, или нет. В первом случае будетнесколько субстанций одной и той же природы, что (пот. 5)невозможно. Если предположить второе, то (как и выше)абсолютно бесконечная субстанция будет иметь возможностьперестать существовать, что (по т. 11) также нелепо.
Королларий. Отсюда следует, что всякая субстанция, аследовательно, и всякая телесная субстанция, посколькуона есть субстанция, неделима.
Схолия. Что субстанция неделима, это еще проще открывается из одного того, что природа субстанции можетбыть представляема только бесконечной, а под частью субстанции можно понимать только конечную субстанцию, аэто (по т. 8) содержит в себе очевидное противоречие.
Теорема 14
Кроме Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема.
Доказательство. Так как Бог есть существо абсолютнобесконечное, у которого нельзя отрицать ни одного атрибута, выражающего сущность субстанции (по опр. 6), и оннеобходимо существует (по т. 11), то, если бы была какаялибо субстанция кроме Бога, она должна была бы выражаться какимлибо атрибутом Бога, и таким образом существовали бы две субстанции с одним и тем же атрибутом;а это (по т. 5) невозможно; следовательно, вне Бога неможет существовать никакой субстанции, а потому таковая не может быть и представляема. Ибо если бы онамогла быть представляема, то она необходимо должна была бы быть представляема существующей, а это (по первойчасти этого док.) невозможно. Следовательно, вне Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема; что и требовалось доказать.
Королларий 1. Отсюда самым ясным образом следует 1), что Бог един, т. е. (по опр. 6) что в природе вещейсуществует только одна субстанция, и эта субстанция абсолютно бесконечна, как мы уже намекали в т. 10.
Королларий 2. Следует 2), что вещь протяженная ивещь мыслящая (res extensa et res cogitans) составляют или атрибуты Бога или (по акс. 1) состояния (модусы)атрибутов Бога.
Теорема 15
Все, что только существует, существует в Боге, и безБога ничто не может ни существовать, ни быть представляемо.
Доказательство. Кроме Бога (по т. 14) не существует и неможет быть представляема никакая другая субстанция, т. е.(по опр. 3) вещь, существующая сама в себе и представляемая сама через себя. Модусы же (по опр. 5) без субстанциине могут ни существовать, ни быть представляемы; следовательно, они могут существовать только в Божественной природе и быть представляемы только через нее. Но кроме субстанций и модусов не существует ничего (по акс. 1).Следовательно, без Бога ничего не может ни существовать,ни быть представляемо; что и требовалось доказать.
Схолия. Есть люди, которые воображают, будто Бог подобно человеку состоит из тела и души и подвержен страстям. Но уже из доказанного ясно, как далеки они отпознания истинного Бога. Однако их я оставляю в стороне. Ибо все, которые какимлибо образом размышляли оБожественной природе, отрицают телесность Бога. Они доказывают это всего лучше тем, что под телом мы понимаем некоторую величину, имеющую длину, ширину и глубину и ограниченную какойлибо определенной фигурой; оБоге же, существе абсолютно бесконечном, нельзя ничегосказать бессмысленнее этого. Но из других способов, которыми они стараются доказать то же самое, ясно, что онисовершенно удаляют от Божественной природы и самуютелесную или протяженную субстанцию и полагают, чтоона сотворена Богом. Каким родом Божественного могущества могла она быть сотворена, они совершенно не знают, а это ясно показывает, что они сами не понимают, чтоговорят. Я, по крайней мере, по моему мнению, достаточноясно доказал (см. кор. т. 6 и сх. 2 к т. 8), что никакаясубстанция не может быть произведена или сотворена чемлибо иным.Далее, в т. 14 мы показали, что кроме Бога
никакая субстанция не может ни существовать, ни бытьпредставляема. Отсюда мы заключили, что протяженнаясубстанция составляет один из бесконечно многих атрибутов Бога. Однако для большего уяснения дела я, крометого, опровергну все аргументы противников, которые сводятся к следующему.
Вопервых, думают, что телесная субстанция, посколькуона субстанция, состоит из частей, и потому отрицают, чтобы она могла быть бесконечна и, следовательно, иметь место в Боге. Это объясняют многими примерами, из которых я приведу один или два. Говорят, например, что еслителесная субстанция бесконечна, то можно представить, чтоона делится на две части. Каждая часть будет конечнойили бесконечной. Если принять первое, то это будет значить, что бесконечное слагается из двух частей конечных, аэто нелепо. Если принять второе, то одно бесконечное будет вдвое больше другого бесконечного, что также нелепо.Далее говорят, что если измерять бесконечную величинучастями, равными футу, то она должна будет состоять избесконечно многих подобных частей, точно так же, как и втом случае, если измерять ее частями, равными дюйму;следовательно, одно бесконечное число будет в 12 раз более другого бесконечного. Наконец, говорят: если вообразить, что две расходящиеся линии АВ и АС, выходящие изодной точки, относящейся к какойлибо бесконечной величине, и находящиеся вначале на известном и определенном расстоянии друг от друга, будут продолжены в бесконечность, то известно, что расстояние между В и Спостоянно увеличивается и, наконец, из определенного станет неопределимым. Так как эти нелепости, как думают,вытекают из того, что предполагается бесконечная величина, то заключают, что телесная субстанция должна бытьконечной и поэтому не может иметь места в сущностиБога.
Второй аргумент основывается также на высочайшемсовершенстве Бога. Бог, говорят, как существо наисовершеннейшее, не может страдать; телесная же субстанция,так чак она делима, может страдать; следовательно, она неотносится к сущности Бога.
Таковы аргументы, находимые мною у писателей, старающихся доказать ими, что телесная субстанция недостойна Божественной природы и не может иметь в ней места. Однако если кто правильно вникнет в это дело, то найдет, что я уже ответил на них,так как все эти аргументы основываются только на том предположении, что телесная субстанция слагается из частей, а я уже показал,что это невозможно (т. 12 с кор.т. 13). Далее, если кто захочет тщательно обсудить этот вопрос, то увидит, что все эти нелепости (а чтовсе они таковы, об этом я не спорю), из которых хотят прийти к заключению, что протяженная субстанция конечна, вытекают вовсе не из того, что предполагается бесконечнаявеличина, а только из предположения, что бесконечная величина измерима и слагается из конечных частей. Поэтому из нелепостей, вытекающих из означенного предположения, нельзя заключить ничего другого, кроме того, чтобесконечная величина недоступна измерению и из конечных частей состоять не может. А это то же самое, что мыуже доказали выше (т. 12 и т. д.). Итак, оружие, котороенаправляют против нас, попадает на деле в них самих.Таким образом, если из означенной нелепости желают заключить, что протяженная субстанция должна быть конечной, то, право, делают то же самое, как если бы ктовообразил, что круг имеет свойства квадрата, и заключалбы отсюда, что круг не имеет такого центра, чтобы все линии, проведенные из него к окружности, были равны. Всамом деле, для того чтобы прийти к заключению, чтотелесная субстанция конечна, принимают, что она можетбыть представляема только как бесконечная, единая и неделимая (см. т. 8, 5 и 12). Точно так же и другие, вообразив, что линия слагается из точек, умеют найти большоеколичество доказательств, показывающих, что линия неможет быть делима до бесконечности. И, конечно, полагать, что телесная субстанция слагается из тел или частей, не менее нелепо, чем полагать, что тело слагается из поверхностей, поверхности — из линий, наконец линии — източек. Это должны признать все, кто знает, что ясный разум непогрешим, и в особенности те, которые отрицаютсуществование пустого пространства. В самом деле, еслибы телесная субстанция могла быть делима таким образом, что ее части действительно были бы различны, то почему тогда одна часть не могла бы уничтожиться, междутем как остальные, как и прежде, оставались бы в соединении между собой; почему все они должны быть такимобразом прилажены одна к другой, чтобы между ними неоставалось пустого пространства? Вещи, реально различные друг от друга, конечно, могут существовать и оставаться в своем состоянии одна без другой. Но так как пустогопространства в природе не существует (о чем в другомместе), то все части должны сходиться таким образом, чтобы между ними пустого пространства не было; отсюда следует, что эти части и не могут быть реально различнымежду собой, т. е. что телесная субстанция, поскольку онасубстанция, не может быть делима.
Если же кто спросит, почему мы от природы так склонны представлять величину делимой, то я отвечу, что величина представляется нами двумя способами: абстрактно илиповерхностно, именно как мы ее воображаем, или же каксубстанция, что возможно только посредством разума. Если таким образом мы рассматриваем величину, как онасуществует в воображении, что бывает чаще и гораздо легче,то мы находим ее конечной, делимой и состоящей из частей. Если же мы рассматриваем ее, как она существует вразуме, и представляем ее как субстанцию, что весьма трудно, то она является перед нами, как мы уже достаточнодоказали, бесконечной, единой и неделимой. Это будет достаточно ясно всем, кто научился делать различие междувоображением (imaginatio) и разумом (intellectus); в особенности, если обратить также внимание на то, что материяповсюду одна и та же и что части могут различаться в нейлишь, поскольку мы представляем ее в различных состояниях. Следовательно, части ее различаются только модально, а не реально. Так, например, мы представляем, что вода, поскольку она есть вода, делится и ее части отделяютсядруг от друга. Но это невозможно для нее, поскольку онаесть телесная субстанция, ибо как таковая она не способнани к делению, ни к разделению. Далее вода как вода возникает и исчезает, а как субстанция она не возникает и неисчезает. Я думаю, что этим я ответил также и на второйаргумент, так как и он основывается на том, что материя,поскольку она субстанция, делима и состоит из частей. Идаже если бы этого и не было, то я все же не знаю, почемубы материя была недостойна Божественной природы; ведь(по т. 14) вне Бога не может быть никакой субстанции,действие которой она могла бы испытать. Все, говорю я,существует в Боге, и все, что происходит, происходит поодним только законам бесконечной природы Бога и вытекает (как я скоро покажу) из необходимости его сущности.Поэтому никаким образом нельзя сказать, что Бог страдаетот чеголибо другого или что протяженная субстанция недостойна Божественной природы, хотя бы она и предполагалась делимой, но только признавалась бы вечной и бесконечной. Однако об этом пока довольно.
Теорема 16
Из необходимости Божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами (т. е. все, что только может представитьсебе бесконечный разум).
Доказательство. Эта теорема должна быть ясна всякому,если только обратить внимание на то, что разум из данногоопределения какойлибо вещи выводит различные свойства,которые необходимо на самом деле вытекают из нее (т. е.из самой сущности вещи), и тем большее число их, чемболее реальности выражает определение вещи, т. е. чем более реальности заключает в себе сущность определяемойвещи. А так как Божественная природа (по опр. 6) заключает в себе абсолютно бесконечное число атрибутов, из которых каждый выражает сущность, бесконечную в своемроде, то из ее необходимости необходимо должно вытекатьбесконечное множество вещей бесконечно многими способами (т. е. все, что только может быть представлено бесконечным разумом); что и требовалось доказать.
- Королларий 1. Отсюда следует 1), что Бог есть производящая причина (causa efficiens) всех вещей, какие толькомогут быть представлены бесконечным разумом.
- Королларий 2. Следует 2), что Бог есть причина сам посебе, а не случайно (per accidens).
- Королларий 3. Следует 3), что Бог есть абсолютно первая причина.
Теорема 17
Бог действует единственно по законам своей природыи без чьеголибо принуждения.
Доказательство. Мы только что показали в т. 16, чтоиз одной лишь необходимости Божественной природы или(что то же) из одних только законов его природы безусловно вытекает бесконечно многое; кроме того, в т. 15 мыдоказали, что без Бога ничто не может ни существовать, нибыть представляемо, но что все существует в Боге. Следовательно, вне его не может быть ничего, чем бы он определялся или принуждался к действию; таким образом, Богдействует в силу одних только законов своей природы ибез чьеголибо принуждения; что и требовалось доказать.
- Королларий 1. Отсюда следует 1), что нет никакой причины, которая побуждала бы Бога извне или изнутри кдействию, кроме совершенства его природы.
- Королларий 2. Следует 2), что один только Бог естьсвободная причина. Так как только он один существует(по т. 11 и кор. 1 т. 14) и действует (по пред, т.) по однойлишь необходимости своей природы, то, следовательно (поопр. 7), только он один есть свободная причина; что итребовалось доказать.
Схолия. Иные думают, что Бог есть свободная причинапотому, что он может, по их мнению, сделать так, чтобы то,что, как мы сказали, вытекает из его природы, т. е. находится в его власти, не происходило, иными словами, непроизводилось бы им. Но это то же самое, как если бы онисказали, что Бог может сделать так, чтобы из природы треугольника не вытекало равенство трех углов его двум прямым или чтобы из данной причины не следовало следствие; а это нелепо. Ниже я покажу без помощи этой теоремы, что в природе Бога не имеют места ни ум, ни воля.Правда, я знаю, что многие думают, будто они могут доказать, что природе Бога свойственны высочайший ум и свободная воля; они не знают, говорят они, ничего более совершенного, что можно было бы приписать Богу, как то,что в нас самих составляет величайшее совершенство. Далее, хотя они и представляют Бога в действительности (актуально) в высшей степени одаренным разумом, однако неверят, чтобы он мог вызвать к существованию все, что он вдействительности (актуально) представляет; так как, думают они, таким образом уничтожилось бы могуществоБога. Если бы он, говорят они, сотворил все, что существует в его уме, то он не мог бы тогда более ничего творить, аэто, по их мнению, противоречит всемогуществу Бога. Поэтому они предпочитают считать Бога ко всему равнодушным и не творящим ничего, кроме того, что он постановилсотворить некоторой безусловной волей. Однако я показал (см. т. 16), думаю, достаточно ясно, что из высочайшегомогущества Бога, иными словами, — из бесконечной природы его, необходимо воспоследовало или всегда следует втой же необходимости бесконечное в бесконечном многообразии, т. е. все, точно так же как из природы треугольника от вечности и до вечности следует, что три угла его равныдвум прямым. Поэтому всемогущество Бога от вечности было действующим (актуально) и навеки останется в той жесамой действенности (актуальности). И, таким образом, покрайней мере, по моему мнению, оно понимается гораздоболее совершенным. Мало того, оказывается, что противники этого (можно открыто сказать) отрицают всемогуществоБога. Они должны полагать, что Бог мыслит бесконечномногое, способное быть сотворенным, и, однако, никогда небудет в состоянии сотворить этого. Так как в противномслучае, если бы он сотворил все, что мыслит, он исчерпал бы,по их мнению, свое всемогущество и сделался бы несовершенным. Следовательно, для того чтобы полагать Бога совершенным, они должны полагать вместе с тем, что он не может произвести всего того, на что простирается его могущество, а бессмысленнее этого или более противоречащеговсемогуществу Бога я не знаю, что можно вообразить.
Далее (чтобы сказать здесь также о разуме (intellectus)и воле, которые мы обыкновенно приписываем Богу), есливечной сущности Бога свойственны разум и воля, то подобоими этими атрибутами, конечно, должно понимать нечто иное, чем то, что люди обыкновенно понимают подними. Ибо разум и воля, которые составляли бы сущностьБога, должны были бы быть совершенно отличны от нашего разума и нашей воли и могли бы иметь сходство сними только в названии; подобно тому, например, как сходны между собой Пес — небесный знак и пес — лающееживотное. Это я докажу следующим образом.
Если разум имеет место в Божественной природе, то онне может, как наш, следовать по природе за постигаемымивещами (как многие думают) или существовать одновременно с ними, так как Бог по своей причинности первое всехвещей (по кор. 1 т. 16). Напротив, истина и формальнаясущность вещей такова потому, что она такою существуетобъективно в разуме Бога. Таким образом, ум Бога, поскольку он понимается составляющим сущность его, на самом деле есть причина вещей как по отношению к их существованию, так и по отношению к их сущности. Этозаметили, кажется, и те, которые признали, что ум, воля имогущество Бога одно и то же. Если же разум Бога естьединственная причина вещей, именно, как мы показали, исуществования их и сущности, то он необходимо долженотличаться от них как в отношении к первому, так и вотношении ко второй. Ибо то, что следует из причины, отличается от последней как раз в том, что оно получает отнее. Человек, например, есть причина существования, но несущности другого человека (последняя есть вечная истина). Поэтому по сущности оба они могут быть совершенносходны, но в существовании должны быть различны друг отдруга. Вследствие этого если прекратится существованиеодного, то не прекратится и существование другого; но еслибы могла разрушиться и сделаться ложной сущность одного, то разрушилась бы также и сущность другого. Следовательно, вещь, составляющая причину как существования,так и сущности какоголибо следствия, должна отличатьсяот этого последнего как по своему существованию, так и посвоей сущности. А так как ум Бога есть причина и существования и сущности нашего ума, то он, поскольку представляется составляющим Божественную сущность, различаетсяот нашего ума как по своему существованию, так и по своейсущности, и не может иметь сходства с ним, как мы и хотелипоказать, ни в чем, кроме названия. К воле, как это всякийлегко может видеть, прилагается то же самое доказательство.
Теорема 18
Бог есть имманентная (immanens) причина всех вещей, а не действующая извне (transiens).
Доказательство. Все, что существует, существует в Боге идолжно быть представляемо через Бога (по т. 15); следовательно, Бог (по кор. 1 т. 16) есть причина существующих внем вещей; это — первое. Далее, вне Бога не может существовать никакой другой субстанции (по т. 14), т. е. (по опр. 3)вещи, которая существовала бы сама в себе вне Бога; это —второе. Следовательно, Бог есть имманентная причина всехвещей, а не действующая извне; что и требовалось доказать.
Теорема 19
Бог, иными словами, все атрибуты Бога — вечны.
Доказательство. Бог (по опр. 6) есть субстанция, которая необходимо существует (по т. 11), т. е. (по т. 7) природе которой необходимо присуще существование, или (что,то же) из определения которой следует, что она существует. Следовательно, он (по опр. 8) вечен. Далее, под атрибутами Бога должно понимать то, что (по опр. 4) выражаетсущность Божественной субстанции, т. е. то, что свойственно ей: вот что, говорю я, должны заключать в себе атрибуты. Но природе субстанции (как я доказал уже в т. 7)свойственна вечность. Следовательно, каждый из атрибутов должен заключать в себе вечность, потому все они вечны; что и требовалось доказать.
Схолия. Эта теорема совершенно ясно вытекает такжеи из того способа, каким (т. 11) я доказал существованиеБога. Из означенного доказательства, говорю я, ясно, чтосуществование Бога, так же как и его сущность, есть вечная истина. Наконец, в т. 19, ч. I «Основ философии Декарта» я доказал вечность Бога еще другим способом ине имею нужды повторять здесь это доказательство.
Теорема 20
Существование Бога и сущность его — одно и то же.
Доказательство. Бог и все атрибуты Бога (по пред, т.)вечны, т. е. (по опр. 8) каждый из его атрибутов выражаетсуществование. Следовательно, те же самые атрибуты Бога,которые (по опр. 4) раскрывают вечную сущность его, раскрывают вместе с тем и его вечное существование, т. е. тоже самое, что составляет сущность Бога, составляет вместеи его существование. Следовательно, существование и сущность его — одно и то же; что и требовалось доказать.
- Королларий 1. Отсюда следует 1), что существованиеБога, так же как и его сущность, есть вечная истина.
- Королларий 2. Следует 2), что Бог, иными словами, всеатрибуты Бога — неизменяемы. Ибо если бы они изменялись в отношении к существованию, они должны были бы(по пред, т.) изменяться и в отношении к сущности, т. е.(что само собой понятно) из истинных стать ложными, аэто нелепо.
Теорема 21
Все, что вытекает из абсолютной природы какоголибо атрибута Бога, должно обладать вечным и бесконечным существованием, иными словами, через посредство этого атрибута все это вечно и бесконечно.
Доказательство. Если кто отрицает это, пусть представит, если можно, что в какомлибо из атрибутов Бога изего абсолютной природы вытекает чтолибо конечное иимеющее ограниченное существование или продолжение,например идея Бога в атрибуте мышления. Но мышление, поскольку оно предполагается составляющим атрибут Бога, по своей природе необходимо бесконечно (по т. 11).Поскольку же оно содержит идею Бога, оно предполагается конечным. Но конечным оно может быть представляемо только в том случае, если оно ограничивается самим же мышлением (по опр. 2), но не мышлением, поскольку оно составляет означенную идею Бога (так какименно в этом отношении оно и предполагается конечным), а следовательно, мышлением, поскольку оно не содержит идеи Бога, которое, однако (по т. 11), необходимодолжно существовать. Таким образом, мы имеем мышление, не содержащее идеи Бога, из природы которого, поскольку оно есть абсолютное мышление, идея Бога необходимо не вытекает (так как оно представляется и содержащим идею Бога и не содержащим ее); а это противнопредположению. Следовательно, если идея Бога в атрибутемышления или что бы то ни было (все равно, что ни взять,так как доказательство одно для всего) в какомлибо атрибуте Бога вытекает из необходимости абсолютной природы самого атрибута, то все это необходимо должно бытьбесконечным; это — первое.
Далее, вытекающее таким образом из необходимостиприроды какоголибо атрибута не может иметь ограниченной длительности. Если кто отрицает это, пусть предположит, что в какомлибо атрибуте Бога находится вещь, необходимо вытекающая из него, например идея Бога ватрибуте мышления, и пусть предположит, что она когдалибо не существовала или не будет существовать. Так какмышление предполагается атрибутом Бога, то оно должносуществовать необходимо и неизменно (по т. 11 и кор. 2т. 20). Поэтому за границами продолжения идеи Бога (таккак предполагается, что она когдалибо не существовалаили не будет существовать) мышление должно существовать без идеи Бога. Но это противно предположению, таккак допущено, что из данного мышления необходимо вытекает идея Бога. Следовательно, идея Бога в атрибутемышления или чтолибо иное, необходимо вытекающее изабсолютной природы какоголибо атрибута Бога, не можетиметь ограниченного продолжения; оно вечно через посредство этого атрибута; это — второе. Должно заметить,что то же самое применимо и ко всякой другой вещи, которая необходимо вытекает в какомлибо атрибуте Бога изабсолютной Божественной природы.
Теорема 22
Все, что вытекает из какоголибо атрибута Бога, поскольку этот атрибут находится в состоянии такой модификации, существование которой через посредство этого атрибута необходимо и бесконечно, все это также должнообладать существованием и вечным и бесконечным.
Доказательство. Эта теорема доказывается таким жеспособом, как и предыдущая.
Теорема 23
Всякий модус, обладающий необходимым и бесконечным существованием, необходимо должен вытекать илииз абсолютной природы какоголибо атрибута Бога, илииз какоголибо атрибута, находящегося в состоянии необходимой и бесконечной модификации.
Доказательство. Модус существует в чемлибо ином, черезчто и должен быть представляем (по опр. 5), т. е. (по т. 15)он существует в одном только Боге и только через него иможет быть представляем. Если, следовательно, он представляется необходимо существующим и бесконечным, тои то и другое необходимо должно вытекать или представляться через посредство какоголибо атрибута Бога, поскольку этот атрибут представляется выражающим бесконечность и необходимость существования, иными словами(что по опр. 8 то же самое), вечность, т. е. (по опр. 6 ит. 19) поскольку он рассматривается абсолютно. Итак модус, обладающий необходимым и бесконечным существованием, должен вытекать из абсолютной природы какоголибо атрибута Бога и именно или непосредственно (о чемсм. т. 21) или через посредство какойлибо модификации,вытекающей из его абсолютной природы, т. е. (по пред, т.)необходимой и бесконечной; что и требовалось доказать.
Теорема 24
Сущность вещей, произведенных Богом, не заключает всебе существования.
Доказательство. Это ясно из опр. 1, так как то, природачего (разумеется, рассматриваемая сама в себе) заключаетсуществование, составляет причину самого себя и существует по одной только необходимости своей природы.
Королларий. Отсюда следует, что Бог составляет причину не только того, что вещи начинают существовать, нотакже и того, что их существование продолжается, инымисловами (пользуясь схоластическим термином), Бог естьcausa essendi (причина бытия) вещей. В самом деле, существуют ли вещи или не существуют, мы всякий раз, какрассматриваем их сущность, находим, что она не заключает в себе ни существования, ни длительности, и, следовательно, сущность вещей не может быть причиной ни ихсуществования, ни их продолжения. Такой причиной может быть только Бог, так как единственно его природеприсуще существование (по кор. 1 т. 14).
Теорема 25
Бог составляет производящую причину (causa efficiens)не только существования вещей, но и сущности их.
Доказательство. Если отрицать это, значит Бог не естьпричина сущности вещей; следовательно (поакс. 4), сущность вещей может быть представляема без Бога, но этонелепо (по т. 15). Следовательно, Бог составляет причинутакже и сущности вещей; что и требовалось доказать.
Схолия. Эта теорема яснее вытекает из т. 16. Из нееследует, что из данной Божественной природы необходимодолжно вытекать как существование вещей, так и сущность их. Короче сказать, в том же самом смысле, в каком Бог называется причиной самого себя, он должен бытьназван и причиной всех вещей. Это станет еще яснее изследующего короллария.
Королларий. Отдельные вещи составляют не что иное,как состояния или модусы атрибутов Бога, в которых последние выражаются известным и определенным образом.(Доказательство ясно из т. 15 и опр. 5.)
Теорема 26
Вещь, которая определена к какомулибо действию, необходимо определена таким образом Богом, а не определенная Богом сама себя определить к действию не может.
Доказательство. То, чем вещи определяются к какомулибо действию, необходимо составляет нечто положительное (это ясно само собой); следовательно, производящуюпричину как его существования, так и сущности (по т. 25и 16) составляет Бог по необходимости своей природы; это —первое. Отсюда самым ясным образом вытекает также ивторое, так как если бы вещь, не определенная Богом, могла определять сама себя, то первая часть этой теоремыбыла бы ложна, а это, как мы показали, невозможно.
Теорема 27
Вещь, которая определена Богом к какомулибо дейслгвию, не может сама себя сделать не определенной к нему.Доказательство. Эта теорема ясна из акс. 3.
Теорема 28
Все единичное, иными словами, всякая конечная и ограниченная по своему существованию вещь может существовать и определяться к действию только в mow случае,если она определяется к существованию и действию какойлибо другой причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию. Эта причина, в свою очередь, также может существовать и определяться кдействию только в том случае, если она определяется ксуществованию и действию третьей причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию, и такдо бесконечности.
Доказательство. Все, что определено к существованиюи действию, определено таким образом Богом (по т. 26 и кор. т. 24). Но конечное и имеющее ограниченное существование не могло быть произведено абсолютной природойкакоголибо атрибута Бога, так как все, что вытекает изпоследнего, бесконечно и вечно (по т. 21). Следовательно,оно должно было проистечь из Бога или какоголибо егоатрибута, поскольку он рассматривается в состоянии какоголибо модуса, так как кроме субстанции и модусов нетничего (по акс. 1 и опр. 3 и 5), а модусы (по кор., т. 25)суть не что иное, как состояния атрибутов Бога. Но оно немогло также проистечь из Бога или из какоголибо егоатрибута, поскольку он находится в состоянии какойлибомодификации, вечной и бесконечной (по т. 22). Следовательно, оно должно было проистечь или определиться ксуществованию и действию Богом или какимлибо атрибутом, поскольку он находится в состоянии модификацииконечной и имеющей ограниченное существование. Это первое. Далее, эта причина, или этот модус (на том же самомосновании, как мы только что доказали первую часть этойтеоремы), должна, в свою очередь, также определяться другой причиной, которая также конечна и ограничена в своем существовании; последняя (на том же основании) — всвою очередь, другой, и так (на том же самом основании)до бесконечности; что и требовалось доказать.
Схолия. Так как нечто должно было быть произведеноБогом непосредственно, а именно то, что необходимо вытекает из его абсолютной природы, и это первое посредствуетвсе остальное, что, однако, без Бога не может ни существовать, ни быть представляемо, то отсюда следует 1), что Богесть абсолютно первая причина вещей, непосредственно производимых им, а не первая, как говорят, в пределах своегорода. Ибо действия Бога не могут ни существовать, нибыть представляемы без своей причины (по т. 15 и кор.т. 24). Следует 2), что про Бога нельзя собственно сказать,что он составляет отдаленную причину отдельных вещей,за исключением, пожалуй, того случая, когда такое выражение употребляется для того, чтобы отличить эти вещиот тех, которые он производит непосредственно или, лучшесказать, которые вытекают из его абсолютной природы.Ибо под отдаленной причиной мы понимаем такую, которая никаким образом не связана со своим действием. Авсе, что существует, существует в Боге^и зависит от неготаким образом, что без него не может ни существовать, нибыть представляемо.
Теорема 29
В природе вещей нет ничего случайного, но все определено к существованию и действию по известному образуиз необходимости Божественной природы.
Доказательство. Все, что существует, существует в Боге(по т. 15). Бог же не может быть назван случайной вещью,так как (по т. 11) он существует необходимо, а не случайно. Далее, модусы Божественной природы, рассматриваетсяли она определенной к действию абсолютно (по т. 21) илиизвестным образом (по т. 27), также проистекли из неенеобходимо, а не случайно (по т. 16). Затем Бог составляет причину этих модусов, не только поскольку они простосуществуют (по кор. т. 24), но также (по т. 26) и поскольку они рассматриваются определенными к какомулибодействию. Так что, если они не определены Богом (по тойже т.), то невозможно и не зависит от случая, чтобы онисами себя определили. И обратно (по т. 27), если они определены Богом, то невозможно и не зависит от случая, чтобы они сделали себя неопределенными. Итак, все определено из необходимости Божественной природы не толькок существованию, но также и к существованию и действиюпо известному образу, и случайного нет ничего; что и требовалось доказать.
Схолия. Прежде чем идти далее, я хочу изложить здесьили, лучше сказать, напомнить, что мы должны пониматьпод natura naturans (природа порождающая) и naturanaturata (природа порожденная). Из предыдущего, я полагаю, ясно уже, что под natura naturans нам должно понимать то, что существует само в себе и представляется самочерез себя, иными словами, такие атрибуты субстанции,которые выражают вечную и бесконечную сущность, т. е.(по кор. 1 т. 14 и кор. 2т. 17) Бога, поскольку он рассматривается как свободная причина. А под natura naturata понимаю все то, что вытекает из необходимости природыБога, иными словами, — каждого из его атрибутов, т. е.все модусы атрибутов Бога, поскольку они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге и без Бога немогут ни существовать, ни быть представляемы.
Теорема 30
Разум, будет ли он в действительности (актуально)конечным или бесконечным, должен постигать атрибуты Бога и его модусы и ничего более.
Доказательство. Истинная идея должна быть согласнас своим объектом (ideatum) (по акс. 6), т. е. (как это самособой ясно) то, что заключается в уме объективно, необходимо должно существовать в природе. Но в природе (покор. 1 т. 14) не существует никакой другой субстанции,кроме Бога, и никаких других модусов, кроме тех, которыенаходятся в Боге (по т. 15) и (по той же т.) без Бога немогут ни существовать, ни быть представляемы. Следовательно, ум, будет ли он в действительности (актуально) конечным или бесконечным, должен постигать атрибуты Богаи его модусы и ничего более; что и требовалось доказать.
Теорема 31
Разум (intellectus), будет ли он в действительности(актуально) конечным или бесконечным, равно как и воля, желание, любовь и т. д., должны относиться к naturanaturata, а не к natura naturans.
Доказательство. Под разумом (умом) — само собой ясно — мы понимаем не абсолютное мышление, но толькоизвестный модус его, отличный от других таких же модусов,как, например, желания, любви и т. д. Следовательно, умдолжен быть представляем через посредство абсолютногомышления (по опр. 5), т. е. (по т. 15 и опр. 6) через посредство некоторого атрибута Бога, выражающего вечную и бесконечную сущность мышления таким образом, что без этого атрибута он не может ни существовать, ни бытьпредставляем. И потому (по сх. т. 29) он должен относиться к natura naturata, а не к natura naturans, равно как идругие модусы мышления; что и требовалось доказать.
Схолия. То, что я говорю здесь о разуме, как он [существует] в действительности (актуальном), не значит, что ядопускаю существование еще какоголибо ума в возможности. Но так как я желаю избегать всякой запутанности,то я и предпочел говорить только о вещи, совершенно ясной для нас, именно о самом умственном процессе, яснеекоторого для нас нет ничего. В самом деле, всякий актпоследнего ведет нас к более совершенному познанию самого умственного процесса.
Теорема 32
Воля не может быть названа причиной свободной, нотолько необходимой.
Доказательство. Воля составляет только известный модус мышления, точно так же, как и ум: поэтому (по т. 28)каждое отдельное проявление воли может определяться ксуществованию и действию только другой причиной, эта —снова другой и так до бесконечности. Если же предположить волю бесконечную, то и она также должна определяться к действию Богом, не поскольку он составляет абсолютно бесконечную субстанцию, а лишь поскольку онобладает атрибутом, выражающим бесконечную и вечнуюсущность мышления (по т. 23). Итак, все равно, представляется ли воля конечной или бесконечной, всегда найдется причина, которая определяла бы ее к существованию идействию, и потому (по опр. 7) воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой или принужденной; что и требовалось доказать.
- Королларий 1. Отсюда следует 1), что Бог не действуетпо свободе воли.
- Королларий 2. Следует 2), что воля и ум относятся кприроде Бога точно так же, как движение и покой и вообще все естественное, что (по т. 29) к существованию и действию по известному образу должно определяться Богом.Это потому, что воля, как и все остальное, нуждается впричине, которой она определялась бы к существованию и действию по известному образу. И хотя из данной волиили разума вытекает бесконечно многое, однако же сказать вследствие этого, что Бог действует по свободе воли,можно так же мало, как на основании того, что вытекаетиз движения и покоя (из них ведь также вытекает бесконечно многое), сказать, что он действует по свободе движения и покоя. Итак, воля имеет место в природе Бога неболее, как и все остальные естественные вещи; она относится к ней таким же образом, как движение, покой и всепрочее, что, как мы показали, вытекает из необходимостиБожественной природы и определяется ею к существованию и действию по известному образу.
Теорема 33
Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведены.
Доказательство. Все вещи составляют необходимое следствие данной природы Бога (по т. 16) и определены к существованию и действию по известному образу из необходимости Божественной природы (по т. 29). Если бы, такимобразом, вещи могли быть иной природы или иначе определяться к действию, так что порядок природы был быиной, то, значит, могла бы быть и иная природа Бога, чемта, какая уже существует. И следовательно (по т. 11), этаиная природа Бога также должна была бы существовать,и, таким образом, могло бы быть два Бога или несколько, аэто (по кор. 1 т. 14) нелепо. Следовательно, вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом ини в каком другом порядке и т. д.; что и требовалосьдоказать.
- Схолия 1. Доказав яснее солнечного света, что в вещах нет решительно ничего, почему они могли бы бытьназваны случайными, я хочу объяснить вкратце, что мыдолжны понимать под случайным (Contingens). Но сначала определим, что такое необходимое и невозможное.Какаялибо вещь называется необходимой или в отношении к своей сущности, или в отношении к своей причине, так как существование вещи необходимо следует или из сущности и определения ее, или из данной производящей причины. Далее, на тех же самых основанияхкакаялибо вещь называется невозможной; именно илипотому, что сущность или определение ее заключает всебе противоречие, или потому, что нет никакой определенной внешней причины для произведения такой вещи.Случайной же какаялибо вещь называется единственнопо несовершенству нашего знания. В самом деле, вещь,относительно которой мы не знаем, заключает ли в себеее сущность противоречие, или о которой хорошо знаем,что она не заключает в себе никакого противоречия, и,однако, не можем сказать ничего верного о ее существовании вследствие того, что для нас скрыт порядок причин, — такая вещь никогда не может иметь для нас значения ни необходимой, ни невозможной, и мы называемее поэтому случайной или возможной.
- Схолия 2. Из предыдущего ясно следует, что вещи произведены Богом в высочайшем совершенстве, так как ониявляются необходимым следствием данной совершеннейшей природы. И это нисколько не уменьшает совершенства Бога, так как нас побуждает утверждать это его жесовершенство. Мало того, из положения, противоположного этому, ясно следовало бы (как я только что показал),что Бог не в высшей степени совершенен; в самом деле,если бы вещи были произведены иначе, то Богу должнабыла бы быть приписана иная природа, отличная от той,какую мы должны были приписать ему, исходя из рассмотрения существа совершеннейшего.
Впрочем, я не сомневаюсь, что многие отвергнут это мнение как нелепое и не захотят взять на себя труд взвеситьего; и это только потому, что они привыкли приписыватьБогу иную свободу, совершенно отличную от той, котораяпредставлена нами (опр. 7), а именно — абсолютную волю.Не сомневаюсь также и в том, что если бы они захотелиобсудить этот вопрос и правильно взвесить ряд наших доказательств, то они совершенно отвергли бы такую свободу, какую они приписывают теперь Богу, не только какпустую, но и как составляющую большую преграду длязнания. Мне нет нужды повторять здесь то, что сказано в схолии к т. 17. Однако я покажу им, что, если даже идопустить, что воля имеет место в сущности Бога, тем неменее из совершенства Бога все же будет следовать, чтовещи не могли быть сотворены Богом никаким другимобразом и ни в каком другом порядке. Это легко будетдоказать, если мы рассмотрим сначала, с чем они самисогласны. А именно: что только от постановления и волиБога зависит, чтобы каждая вещь была тем, что она есть,так как в противном случае Бог не был бы причиной всехвещей. Далее, что все постановления. Бога были от вечности утверждены самим Богом, так как иначе их можнобыло бы уличить в несовершенстве и непостоянстве. Атак как в вечности нет никакого когда, ни прежде, ни после,то отсюда следует, именно из одного только совершенстваБога, что иного чеголибо Бог постановить ликогда не может и никогда не мог; иными словами, Бог раньше своихпостановлений не существовал и без них существоватьне может. Однако же говорят, что из предположения, чтоБог сотворил бы иную природу вещей или что от вечности он сделал бы иное постановление относительно природы и порядка вещей, не вытекает никакого несовершенства в Боге. Но если говорят так, то вместе с темдолжны будут признать, что Бог может изменять своипостановления. Так как если бы Бог постановил относительно природы и ее порядка чтолибо иное, чем он постановил на самом деле, т. е. если бы он хотел и представлял иную природу, то он необходимо имел бы инойум и иную волю, чем какие имеет. А если можно приписывать Богу иной разум и иную волю и притом без всякого изменения его сущности и совершенства, то что мешает ему переменять свои постановления касательносотворенных вещей и тем не менее оставаться одинаковосовершенным? Ведь для его сущности и совершенства всеравно, в каком бы отношении к сотворенным вещам иих порядку ни представлялись его ум и воля. Далее, всефилософы, которых я знаю, согласны в том, что в Боге нетникакого разума в возможности (в потенции), но тольков действительности (актуально). А так как его ум и воляне различаются от его сущности (в чем все они также согласны), то и отсюда следует, что если бы Бог имел вдействительности (актуально) иной разум и иную волю,то и сущность его необходимо была бы иная, а потому(как я и вывел вначале) если бы вещи были произведеныБогом иначе, чем они произведены на самом деле, то ум иволя Бога, а следовательно, и его сущность, должны былибы быть иными; а это нелепо.
Так как, таким образом, вещи не могли быть произведены Богом никаким иным образом и ни в каком иномпорядке, и истина этого положения вытекает из высочайшего совершенства Бога, то, конечно, никакое разумноеоснование не может нас убедить, как мы надеемся, в том,что Бог не хотел сотворить всего того, что находится в егоуме, в том же совершенстве, в каком он представляетэто. Однако говорят, что в вещах нет никакого ни совершенства, ни несовершенства, свойственного им самим, ночто то, почему они совершенны или несовершенны и называются хорошими или дурными, зависит в них толькоот воли Бога. Так что, если бы Бог захотел, то он мог бысделать так, чтобы то, что теперь составляет совершенство, было величайшим несовершенством, и обратно. Норазве это не то же самое, как открыто утверждать, чтоБог, который необходимо представляет, что хочет, можетпо своей воле сделать так, что он будет представлять вещи иначе, чем представляет на самом деле? А это (как ятолько что показал) величайшая нелепость. Поэтому ямогу их аргумент обратить против них самих и сказать:«Все находится во власти Бога. Поэтому для того, чтобывещи могли быть иными, и воля Бога необходимо должнабыть также иною. Но воля Бога иною быть не может(как мы сейчас доказали это самым ясным образом изсовершенства Бога); следовательно, и вещи иными бытьне могут».
Я должен признаться, что означенное мнение,все подчиняющее какойто индифферентной воле Бога и все ставящее в зависимость от его благосоизволения, мение уклоняется от истины, чем мнение тех, которые полагают, будтоБог все производит под идеей блага. Последние, повидимому, полагают, что вне Бога существует нечто от него независимое, к чему Бог обращается в своем творении какк образцу, или к чему он стремится, как к известной цели.А это, конечно, все равно, что подчинять Бога фатуму. Нонелепее этого ничего нельзя сказать о Боге, который, какмы показали, составляет первую и единственную свободную причину как бытия всех вещей, так и сущности их.Поэтому я и не стану терять времени на опровержениеэтой нелепости.
Теорема 34
Могущество Бога есть сама его сущность.
Доказательство. Прямо из сущности Бога следует, чтоБог составляет причину самого себя (по т. 11) и (по т. 16 иее кор.) всех вещей. Следовательно, могущество Бога, всилу которого существуют и действуют все вещи и он сам,есть сама его сущность; что и требовалось доказать.
Теорема 35
Все, что, по нашему представлению, находится во власти Бога, необходимо существует.
Доказательство. Все, что находится во власти Бога, должно (по пред, т.), таким образом, заключаться в его сущности, чтобы необходимо вытекать из нее, и потому все этонеобходимо существует; что и требовалось доказать.
Теорема 36
Нет ничего, из природы чего не вытекало бы какоголибо действия.
Доказательство. Все, что существует, выражает известным и определенным образом природу или сущность Бога(по кор. т. 25), т. е. (по т. 34) все, что существует, выражает известным и определенным образом могущество Бога,составляющее причину всех вещей; следовательно (по т. 16),из всего этого должно вытекать какоелибо действие; чтои требовалось доказать.
Прибавление
Я раскрыл, таким образом, природу Бога и его свойства,а именно — что он необходимо существует; что он един;что он существует и действует по одной только необходимости своей природы; что он составляет свободную причину всех вещей и каким образом; что все существует в Богеи таким образом зависит от него; что без него не можетни существовать, ни быть представляемо; и, наконец, чтовсе предопределено Богом и именно не из свободы волиили абсолютного благоизволения, а из абсолютной природы Бога, иными словами, бесконечного его могущества. Далее, при всяком случае я старался удалять те предрассудки, которые могли препятствовать пониманию моихдоказательств. Но так как этих предрассудков остаетсяеще немало, и они также, даже в весьма сильной степени,могли и могут препятствовать людям понимать связь вещей таким образом, как я раскрыл ее, то я счел здесьнелишним призвать и их на суд разума.
Все предрассудки, на которые я хочу указать здесь, имеют один источник, именно тот, что люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, какони сами, ради какойлибо цели. Мало того, они считаютза известное, что и сам Бог все направляет к какойлибоопределенной цели (они говорят, что Бог все сотворил длячеловека, человека же — для того, чтобы он чтил его). Поэтому я рассмотрю сначала одно это. Именно, вопервых, япостараюсь найти причину, почему большая часть людейподвержена этому предрассудку и почему все они от природы склонны к нему; затем я раскрою его ложность и,наконец, покажу, каким образом возникли из него предрассудки о добре и зле, заслуге и грехе, похвальном и постыдном, порядке и беспорядке, красоте и безобразии ипрочем в том же роде.
Здесь не место выводить это из природы души человеческой. Достаточно будет взять за исходный пункт то, вчем все должны быть согласны; а именно — что все людиродятся не знающими причин вещей и что все они имеют стремление искать полезного для себя, что они и сознают.Первым следствием этого является то, что люди считаютсебя свободными, так как свои желания и свое стремлениеони сознают, а о причинах, располагающих их к этомустремлению и желанию, даже и во сне не грезят, ибо незнают их. Второе следствие — то, что люди все делаютради цели, именно ради той пользы, к которой они стремятся. Отсюда выходит, что они всегда стремятся узнавать только конечные причины (causae finales) совершившегося и успокаиваются, когда им укажут их, не имея,конечно, никакого повода к дальнейшим сомнениям. Еслиже они не имеют возможности узнать их от другого, то имне остается ничего более, как обратиться к самим себе ипосмотреть, какими целями сами они руководствуются обыкновенно в подобных случаях; таким образом, они необходимо по себе судят о другом. Далее, так как они находят всебе и вне себя немало средств, весьма способствующихосуществлению их пользы, как то: глаза для зрения, зубыдля жевания, растения и животных для питания, солнцедля освещения, море для выкармливания рыб и т. д., тоотсюда и произошло, что они смотрят на все естественныевещи как на средства для своей пользы. Они знают, чтоэти средства ими найдены, а не приготовлены ими самими,и это дает им повод верить, что есть ктото другой, ктоприготовил эти средства для их пользования. В самомделе, взглянув на вещи как на средства, они не могли ужедумать, что эти вещи сами себя сделали таковыми. Но поаналогии с теми средствами, которые они сами обыкновенно приготовляют для себя, они должны были заключить,что есть какойто или какието правители природы, одаренные человеческой свободой, которые обо всем озаботились для них и все создали для их пользования. О характере этих правителей, так как они никогда ничего неслыхали о нем, они должны были судить по своему собственному. Вследствие этого они и предположили, что Богивсе устраивают для пользы людей, дабы люди были к нимпривязаны и воздавали им высочайшие почести. Следствием было то, что каждый посвоему придумывал различные способы почитания Бога, дабы Бог любил его больше
других и заставил всю природу служить удовлетворениюего слепой страсти и ненасытной жадности. Такимто образом предрассудок этот обратился в суеверие и пустил вумах людей глубокие корни. Это и было причиной, почемукаждый всего более старался понять и объяснить конечные причины всех вещей. Но, стремясь доказать, что природа ничего не делает напрасно (т. е. что не служило бы впользу людей), доказали, кажется, только то, что природа иБоги сумасбродствуют не менее людей. Посмотрите, прошувас, до чего, наконец, дошло! Среди стольких удобств природы должны были найти также немало и неудобств, каковы бури, землетрясения, болезни и т. д., и предположили,что это случилось потому, что Боги были разгневаны нанесенными им от людей обидами или погрешностями, допущенными в их почитании. И хотя опыт ежедневно заявлял против этого и показывал в бесчисленных примерах,что польза и вред выпадают без разбора как на долю благочестивых, так и на долю нечестивых, однако же от укоренившегося предрассудка не отстали. Ведь легче былосложить это в массу другого неизвестного, пользы которого люди не знали, и таким образом сохранить свое настоящее и врожденное состояние невежества, чем разрушить все здание и выдумывать новое. Поэтому принялиза истину, что решения Богов далеко превосходят человеческую способность понимания, и это, конечно, было быединственной причиной, почему истина навеки оставаласьбы скрытой для человеческого рода, если бы только математика, имеющая дело не с целями, а лишь с сущностью исвойствами фигур, не показала людям иного мерила истины. Кроме математики можно указать также и другие причины (перечислять которые будет здесь излишним), которые могли заставить людей открыть глаза на эти общиепредрассудки и привести их к истинному познанию вещей.Изложенного достаточно для того, что я обещал рассмотреть на первом месте. Немногого также требует показать, что природа не предназначает для себя никаких целей и что все конечные причины составляют толькочеловеческие вымыслы. Надеюсь, что это уже достаточноясно как из указания тех оснований и причин, из которых берет начало означенный предрассудок, так и из т. 16 икор. т. 32, не говоря уже обо всем том, посредством чего ядоказал, что в природе все происходит в некоторой вечнойнеобходимости и в высочайшем совершенстве. Прибавлю.только к этому, что означенное учение о цели совершенноизвращает природу. На то, что на самом деле составляетпричину, оно смотрит, как на действие, и наоборот; далее,то, что по природе предшествует, оно делает последующим,и, наконец, то, что составляет высочайшее и совершеннейшее, оно делает самым несовершенным. В самом деле (опуская оба первых пункта, которые ясны сами собой), из т. 21,22 и 23 явствует, что то действие есть самое совершенное,которое производится непосредственно Богом, и чем больше нужно посредствующих причин для того, чтобы чтолибо произошло, тем оно несовершеннее. Если же вещи,непосредственно произведенные Богом, были бы сотвореныради достижения Богом своей цели, то вещи самые последние, ради которых были сотворены первые, необходимопревосходили бы все другие. Далее, это учение уничтожаетсовершенство Бога; ибо если Бог творит ради какойлибоцели, то он необходимо стремится к тому, чего у него нет.И хотя теологи и метафизики делают различие между целью, преследуемой вследствие нужды в ней, и целью уподобления, однако они сознаются, что Бог все создал толькодля себя, а не ради вещей, имеющих быть сотворенными,ибо до творения они не могут указать ничего, кроме самогоБога, ради чего Бог действовал бы. Следовательно, они необходимо должны согласиться, что Бог был лишен того,для чего он хотел приготовить средства, и желал этого, какэто само собой ясно. Нельзя пройти здесь молчанием также и того, что сторонники этого учения, желавшие похвастаться своим умом в указании целей вещей, изобрелидля оправдания означенного своего учения новый способдоказательства, именно приведения не к невозможному, ак незнанию; а это показывает, что для этого учения неоставалось никакого другого средства аргументации. Еслибы, например, с какойлибо кровли упал камень на чьюнибудь голову и убил его, они будут доказывать по этомуспособу, что камень упал именно для того, чтобы убить человека; так как если бы он упал не с этой целью по волеБога, то каким же образом могло бы случайно соединиться столько обстоятельств (так как часто их соединяетсявесьма много)? Вы ответите, может быть, что это случилосьпотому, что подул ветер, а человек шел по этой дороге.Однако они будут стоять на своем: почему ветер подул вэто время? почему человек шел по этой дороге именно вэто же самое время? Если вы опять ответите, что ветерподнялся тогда потому, что море накануне начало волноваться при спокойной до тех пор погоде, а человек былприглашен другом, они опять будут настаивать, так каквопросам нет конца: почему же море волновалось? почемучеловек был приглашен в это время? И, таким образом, неперестанут спрашивать о причинах причин до тех пор, пока вы не прибегнете к воле Бога, т. е. к asylum ignorantiae(убежище незнания). Точно так же они приходят в изумление при виде строения человеческого тела и, не знаяпричин такого искусного произведения, заключают, что оносоздано и устроено таким образом, что одна часть не причиняет вреда другой, не механическими силами, а Божественным или сверхъестественным искусством. Отсюда ипроисходит, что кто ищет истинных причин чудес и старается смотреть на естественные вещи как ученый, а не удивляться им, как глупец, — того повсюду считают и провозглашают еретиком и нечестивцем те, перед кем толпа(vulgus) преклоняется, как перед истолкователями природы и Богов. Они ведь знают, что при уничтожении невежества уничтожается также и изумление, т. е. единственноедоступное для них средство для доказательства и охранения их авторитета. Однако оставляю это и перехожу ктретьему пункту, который решил рассмотреть здесь.
После того как люди убедили себя, что все, что происходит, происходит ради них, они должны были считать главным в каждой вещи то, что для них всего полезнее, иставить выше всего другого то, что действует на них всегоприятнее. Отсюда они должны были образовать понятия,которыми могли бы выражать природу вещей, как то: добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, холод, красота, безобразиеи т. д. А. так как люди считают себя свободными, то возникли понятия о похвальном и постыдном, грехе и заслуге. Об этих последних я скажу ниже после исследованиячеловеческой природы, первые же вкратце объясню здесь.
Все то, что способствует их благосостоянию или почитанию Богов, люди назвали добром, противоположное ему —злом. А так как не понимающие природы вещей ничего неутверждают относительно самих вещей, но только воображают их и эти образные представления считают за познание, то, не зная ничего о природе вещей и своей собственной, они твердо уверены, что в вещах существует порядок.Именно, если вещи расположены таким образом, что мылегко можем схватывать их образ в чувственном восприятии и, следовательно, легко припоминать их, то мы говорим, что они хорошо упорядочены, если же наоборот — чтоони находятся в дурном порядке или в беспорядке. А таккак то, что мы легко можем вообразить, нам приятнеедругого, то люди порядок ставят выше беспорядка, какбудто бы порядок составлял в природе чтолибо независимо от нашего представления, и говорят, что Бог все сотворил в порядке, и таким образом, сами того не зная, приписывают Богу воображение, если только не думают, что Бог,заботясь о человеческом воображении, расположил все вещи таким образом, чтобы они как можно легче могли бытьвоображаемы. Их не смутит, пожалуй, существование бесконечно многого, что далеко превосходит наше воображение, и весьма многого, что сбивает его с толку в его бессилии. Но об этом довольно.
Остальные понятия также составляют не что иное какразличные способы воображения, что, однако, не препятствует незнающим смотреть на них, как на самые важныеатрибуты вещей; ибо, как мы уже сказали, они уверены,что все вещи созданы ради них, и называют природу какойлибо вещи хорошей или дурной, здоровой или гнилойи испорченной, смотря по тому, как она на них действует.Так, например, если движение, воспринимаемое нервами отпредметов, представляемых посредством глаз, способствуетздоровью, то предметы, служащие причиной этого движения, называются красивыми. В противном случае они называются безобразными. Далее, то, что действует на чувство через ноздри, называют благовонным или вонючим, чтодействует через язык — сладким или горьким, вкуснымили невкусным, через осязание — твердым или мягким,тяжелым или легким и т. д. Что, наконец, действует наухо, про то говорят, что оно издает шум, звук или гармонию. Последняя так обезумила людей, что они стали верить, будто и сам Бог также услаждается ею. Существуюттакже философы, убежденные, что и небесные движенияобразуют гармонию. Все это достаточно показывает, чтокаждый судил о вещах сообразно с устройством своегособственного мозга или, лучше сказать, состояния своейспособности воображения принимал за самые вещи. Поэтому (заметим мимоходом) не удивительно, что среди людей возникло столько споров, а из них, наконец, — скептицизм. В самом деле, человеческие тела при многихсходствах еще в большем различаются друг от друга, ипотому то, что одному кажется добром — другому кажетсязлом, что одному кажется упорядоченным — другому в беспорядке, что одному приятным — другому неприятным. Тоже должно сказать и об остальном, но я опускаю это какпотому, что здесь не место в подробности говорить об этом,так и потому, что все достаточно испытали это. Беспрестанно повторяется: «сколько голов, столько умов», «своего ума у каждого много», «в мозгах людей различий неменьше, чем во вкусах». Эти выражения достаточно показывают, что люди судят о вещах сообразно с устройствомсвоего мозга и охотнее фантазируют о них, чем познают.Ведь если бы люди познали вещи, то последние, как свидетельствует математика, если и не всем бы доставили удовольствие, то, по крайней мере, всех бы убедили.
Итак, мы видим, что все способы, какими обыкновеннообъясняют природу, составляют только различные родывоображения и показывают не природу какойлибо вещи,а лишь состояние способности воображения. А так какони носят такие названия, как будто они относятся к вещам, существующим помимо нашей способности воображения, то я и называю эти вещи не вещами рассудка (entiarationis), а вещами воображения (entia imaginationis); и,таким образом, все аргументы, приводимые против нас и опирающиеся на подобные понятия, можно легко опровергнуть. В самом деле, многие ведут обыкновенно своидоказательства следующим образом: если все было необходимым следствием совершеннейшей природы Бога, тооткуда же в природе произошло так много несовершенства, как то: порча вещей до зловония, безобразие их, возбуждающее отвращение, беспорядок, зло, грех и т. д.? Все это,говорю я, легко опровергнуть. Ибо о совершенстве вещейдолжно судить по одной только их природе и способности;вещи более или менее совершенны вовсе не потому, чтоони услаждают или оскорбляют человеческое чувство, чтоони полезны для человеческой природы или враждебныей. На вопрос же, почему Бог не создал всех людей такимобразом, чтобы они руководствовались одним только рассудком (ratio), у меня нет другого ответа, кроме следующего: конечно, потому, что у него было достаточно материаладля сотворения всего, от самой высшей степени совершенства до самой низшей; или, прямее говоря, потому, что законыего природы настолько обширны, что их было достаточнодля произведения всего, что только может представить себебесконечный разум, как я доказал это в т. 16.
Вот те предрассудки, о которых я хотел здесь упомянуть. Если остались еще какиелибо в этом же роде, тоони легко могут быть исправлены каждым при небольшом размышлении.
Источник