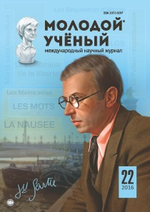Особенности азиатского способа производства
Рубрика: Экономика и управление
Дата публикации: 07.11.2016 2016-11-07
Статья просмотрена: 9274 раза
Библиографическое описание:
Кочмар, А. Н. Особенности азиатского способа производства / А. Н. Кочмар, А. В. Ноева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 22 (126). — С. 174-175. — URL: https://moluch.ru/archive/126/35021/ (дата обращения: 18.11.2021).
Впервые формулировку «азиатский способ производства» употребил Карл Маркс в «Предисловии» «К критике политической экономии» для определения особенностей общественного строя в странах Азии в докапиталистическую эпоху.
Азиатский способ производства — это одна из стадий развития общества, следовавшая запервобытнообщинным строем, характеризующаяся господством государственной земельной собственности, отсутствием крупных хозяйств, непосредственным подчинением крестьян государству, особой ролью государства в создании ирригационной системы, а также наличием в восточных деспотиях развитого слоя государственной бюрократии. [1]
Ирригационная теория связывает возникновение государства с необходимостью строительства и эксплуатации гигантских по тем временам ирригационных сооружений в Египте, Индии, Китае, других аграрных областях. Эти процессы повлекли за собой образование класса чиновников-управленцев, различных бюрократических формирований, обслуживающих жизненно важные объекты хозяйствования, злоупотребляющих своим положением и постепенно порабощающих общество.
Проблемазаключается в том, что «азиатский способ производства» является недостаточно изученной, и вследствие этого острый недостаток информации.
Особенности азиатского способа производства:
1) Отсутствие частной собственности на землю, почти полное отсутствие частной собственности как системы отношений.
2) Товарообмен играет второстепенную роль, касаясь лишь дополнительных продуктов питания.
3) Принципиально отличный как от классического рабства, так и от крепостничества в странах Европы — «поголовное рабство. Основные признаки этого способа эксплуатации:
– Эксплуатация рабочей силы больших масс крестьян.
– Расточительное расходование дешевой рабочей силы на создание грандиозных сооружений, например: Великая китайская стена.
– Массовое государственное принуждение к тяжелому физическому труду
– Эксплуатация коллективов, образуемых сельскими общинами.
Если азиатский способ производства не совпадает ни с рабством, ни с феодализмом, то ему должна быть присуща и собственность не рабовладельческая и не феодальная, а «азиатская» — с особым классовым содержанием. Сторонники «азиатского способа производства» считают, что одним из коренных отличий азиатского способа производства было то, что в странах Востока классово-антагонистическое, эксплуататорское общество базировалось на общинной племенной собственности и сельские общины эксплуатировались государством. Бесспорно, что для Азии характерна тенденция к более длительному и стойкому сохранению общинного землевладения. Игнорировать особенности конкретных азиатских форм невозможно. А так же многие сторонники концепции азиатского способа производства придают первостепенное значение не столько пережиткам «общинной племенной собственности», сколько собственности государственной. Аргументация по вопросу собственности строится в общих чертах так: когда собственником земли и других важнейших средств производства является государство, то это не рабство и не феодализм, а принципиально иной азиатский способ производства.
Если азиатский способ производства не совпадает ни с рабовладением, ни с феодализмом, то, следовательно, ему должны быть присущи методы эксплуатации, способы выжимания и присвоения прибавочного продукта, принципиально иные от рабовладельческих и феодальных. Существует теория о том, что именно поголовное рабство как особая форма эксплуатации является ключом к пониманию азиатского способа производства. Таким образом, в древнем мире действительно существовали массовые «нерабские» (отличные от «классических», «античных») формы эксплуатации.
Среди направлений деятельности эксплуататарского государства в основном преобладают карательно-репрессивные функции, свидетельствующие о том, что такое государство служит интересам одного узкого класса или социальной группы и направлено на несправедливое угнетение большинства населения страны. [3]
Однако такое государство является неизбежным следствием низкой производительности труда и общей культуры населения, относительной неразвитости общественных отношений и разобщенности эксплуатируемого населения. По мере развития и совершенствования общественных отношений, повышения производительности труда и консолидации населения страны сущность государства постепенно меняется.
Таким образом, после проделанной работы, я пришла к выводу, что азиатский способ производства есть способ производства, базирующийся на системе сельских общин. Бесспорно, азиатский способ производства есть особая, присущая Древнему Востоку антагоническая общественно-экономическая формация — кабальная, противоречиво соединяющая в себе признаки рабства и наемного труда. развития в странах Азии двух социально-экономических формаций — рабовладельческой и феодальной.
- К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 13, с. 7.
- Ю. В. Качановский. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства?. М., «Наука», 1971.
- Теория государства и права: учебник для бакалавров/В.Д.Перевалов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 428с.- Серия : Бакалавр. Базовый курс.
Источник
Азиатский способ производства
Во главе государства стоит Хозяин. Он имеет всю полноту власти над своими подчинёнными, которые фактически имеют статус его рабов. Приказы Хозяина претворяет в жизнь обширный бюрократический аппарат: многочисленные чиновники, посредством которых Хозяин доводит свою волю до самых дальних уголков государства.
Такая система управления называется «азиатский способ производства». Она весьма удобна, когда нужно заставить граждан делать важные для страны проекты — рыть ирригационные каналы, строить пирамиды или, к примеру, прокладывать дороги.
Предположим, для наглядности, что нам требуется новый канал. Посмотрим, как будет решаться задача при разных государственных системах.
Президент современного государства подпишет закон, сенат выделит деньги из бюджета, ответственное министерство проведёт тендер и наймёт строительную компанию, которая предложит лучшие условия прокладки канала.
Абсолютный монарх вызовет к себе вельможу и поручит ему рытьё канала. Вельможа организует работы, наймёт свободных землекопов и выставит в итоге монарху счёт, который, вероятно, будет оплачен золотом.
Король при феодализме также попросит об услуге своего вассала, однако денег ему уже не даст, расплатившись взамен натуральным продуктом типа обещания помощи в какой-нибудь военной авантюре. Рыть канал будут крепостные, причём бесплатно.
При азиатском способе производства фараон просто обведёт мышкой группу первых попавшихся под руку юнитов, — писцов, звездочётов, погонщиков ослов, — и отправит их рыть канал. В ходе работ их будут худо-бедно кормить, а позже, когда канал будет прорыт, им позволят вернуться домой.
Собственно, в этом и заключается суть азиатского способа производства: государство находится на ручном управлении одного человека, который распоряжается всеми подданными так, как считает нужным, перемещая их с задания на задание по своему усмотрению.
С одной стороны, получается не слишком-то эффективно, так как писец справляется с глиняными табличками лучше, чем с лопатой. С другой стороны, азиатский способ производства позволяет быстро собирать на нужные государству проекты огромные массы работников: особенно важные преимущества это даёт в военное время. Есть у азиатского способа производства и некоторая социальная привлекательность: так как частная собственность отсутствует, а формальных сословий нет, все граждане в нём являются равным друг другу товарищами, рабочими винтиками единой большой системы.
Сейчас, при большом желании, воссоздать азиатский способ производства в рамках отдельно взятой страны тоже вполне возможно: получится очень бедная страна, которая тем не менее будет способна на отдельные масштабные проекты, не уступающие по уровню проектам развитых стран. Вместе с тем я не представляю народ, которому захотелось бы поставить над собой нелепый социальный эксперимент по возврату в формацию давно минувших эпох.
Источник
«Азиатский способ производства». Как революция обращает вспять ход истории.
Не стихают споры о природе русской революции. Была ли она истинно социалистической? Произошла ли она по Карлу Марксу или вопреки ему? Ответ можно найти между строк у самих основоположников, хотя они и старались уклониться от него.
Обычно марксистская периодизация общественно-экономических формаций сводится к знаменитой «пятичленке». Она была канонизирована И. Сталиным в главе «О диалектическом и историческом материализме» для «Краткого курса истории ВКП(б)», изданного в 1938 г.: «Истории известны пять основных типов производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический».[1] Напомним, что социализм считался первой фазой высшей формации — коммунистической.
Таков был краеугольный камень советского марксизма. Однако сам Маркс, как известно, спорадически включал в схему исторического развития еще одну формацию, которую он обозначал как «азиатскую», или «азиатский способ производства». «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» («К критике политической экономии», 1859). [2]
Азиатский способ следовал за первобытно-общинным и предшествовал античному, или рабовладельческому, как более прогрессивному. Дело в том, что рабовладение уже предполагает развитую частную собственность на средства производства, тогда как в азиатской формации частный субъект еще отсутствует, основные средства производства и земля принадлежат государству, а фактически — царю, императору, богдыхану и их бюрократии.
В третьем томе «Капитала» Маркс пишет:
«Если не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты. Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой частной земельной собственности. » (глава 47). [3]
Следует подчеркнуть, что даже рабовладение, с точки зрения марксизма, представляет значительный прогресс по сравнению с «восточной деспотией», как назвал эту систему Энгельс, указывая в том числе на Россию в «Анти-Дюринге»:
«. Введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперёд. Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперёд по пути развития, и их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда».[4]
Изготовление кирпичей. Гробница визиря Рехмира (Древний Египет, 16-ый век до н.э.)
В 1957 году вышло в свет фундаментальное исследование германо-американского историка, а в прошлом марксиста и коммуниста Карла Августа Виттфогеля «Восточный деспотизм: сравнительное исследование тотальной власти».[5] Опираясь на понятие азиатского способа производства, введенное Марксом, Виттфогель указал на общие черты восточных деспотий:
Не правда ли, это очень напоминает систему правления, построенную в СССР и затем распространенную на весь «лагерь социализма», включая Азию (Китай, Вьетнам, С. Корею) и Восточную Европу? Все население страны, грубо говоря, находится во власти государственной бюрократии, а та — во власти единоличного правителя. Отсюда и «культ личности», по странной прихоти неизменно возникающий в странах, казалось бы, приверженных принципу коллективизма и «общественной собственности на средства производства» (от Сталина до Мао Цзэдуна, от Хо Ши Мина до Ким Ир Сена, от Ф. Кастро до Чаушеску и др.). Не случайно тема «азиатского способа производства», едва просочившись в 1930-е гг. в дискуссии советских марксистов, была тут же высочайше закрыта: слишком очевидны были параллели с «первым в истории социалистическим государством». Азиатское общество стало рассматриваться в советской науке как античное, рабовладельческое, хотя Маркс в своей рукописи «Формы, предшествующие капиталистическому производству» (1857-61) специально подчеркивает, что «это не относится, например, к Востоку при существующем там поголовном рабстве». Поголовное рабство у деспотического государства стадиально предшествует рабовладению как институту частной собственности.
На строительстве Беломорканала
Означает ли это, что большевистская революция произошла вопреки марксистскому учению — в силу географической и исторической близости России к Азии и под давлением ордынского и крепостнического наследия? Маркс ведь предназначал теорию коммунизма для применения в наиболее развитых капиталистических странах, а в России революция уничтожила слабые ростки капитализма и отбросила страну не то что в рабовладельчество, а в еще более примитивную систему «восточного деспотизма».
Некоторые западные марксисты так и считают: Ленин, а большей степени Сталин — исказители первородного марксизма. И тогда можно с облегчением вздохнуть: ведь марксизм не отвечает за свои позднейшие искажения. И пусть он нигде и никогда в своем непогрешимо-передовом виде не был реализован — только в виде грубейших, азиатско-деспотических извращений, — но все-таки коммунизм, каким он изначально виделся основоположникам, в этом случае может оставаться заветной целью и светлой мечтой человечества.
Об «азиатском способе производства» и его месте в марксизме существует обширная литература.[6] Поскольку я не экономист и не историк, я не претендую на общетеоретическое решение этого вопроса. Я хочу лишь заострить внимание на том, что это понятие, выдвинутое Марксом, позволяет не только объяснить «деспотические» итоги марксистских революций в азиатских и полуазиатских странах, но и вступает в противоречие с его собственным учением о коммунизме, точнее, обнажает постыдную тайну этого учения, компрометирует его.
А. М. Родченко. Фотография со строительства Беломорканала.
Показательно, что не только советские историки, но и сами основоположники марксизма не торопились выдвинуть понятие «азиатского способа производства» на видное место в своей теории формаций. Начиная с 1850-х гг. оно проскальзывало в набросках, в переписке, в незаконченных рукописях, но не выступало на первый план. Казалось, Маркс и Энгельс что-то скрывают если не от самих себя, то от своих сподвижников и последователей. «Манифест коммунистической партии» (1848), где перечислены основные общественно-экономические формации и их антагонистические классы: свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, буржуа и пролетарий, — умалчивает об азиатской формации. Не потому ли, что могло бы обнажиться поразительное сходство между нею — и целями коммунистической революции? Если отбросить утопический флер, то коммунизм, по мысли его основоположников, —не что иное, как переход всей собственности в руки государства. Маркс и Энгельс прямо говорят об этом в самой конкретной части «Манифеста коммунистической партии», в конце второй главы, где обсуждаются основные меры, которые должны быть предприняты революцией. Приведу развернутую цитату:
«Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. (. ) Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства.
В наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры:
1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов.
2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.
5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией.
6. Централизация всего транспорта в руках государства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.
8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.
9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней.
10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. «[7]
Во всех десяти программных пунктах варьируется один мотив: централизация, разрастание роли государства и его неограниченная власть обществом и всеми производительными силами. Слово «государство» используется 6 раз, «централизация» — 3 раза, «свобода» — ни разу. Пригодилось даже понятие деспотии: «Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения. «
Представим, что в манифест было бы включено упоминание азиатской формации, как ее позднее характеризовал сам Маркс: «Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. . Не существует никакой частной земельной собственности. » Тогда легко было бы запутаться: откуда и куда движется человечество? И почему тот способ производства, который выставлен как самый отсталый, уступающий даже рабовладельчеству, вдруг вырастает в сияющую вершину исторического прогресса? Получилось бы, по Марксу и Энгельсу, что «наиболее передовые страны», такие, как Англия, Германия, США, призваны совершить коммунистическую революцию, руководствуясь тем образцом, который представляет «азиатский способ производства».
Сходство прослеживается вплоть до деталей: в азиатском государстве «в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, рента и налог совпадают» (Маркс). В коммунистическом: «экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов» (Маркс и Энгельс). Правда, предполагается еще и «высокий прогрессивный налог» — но это для того, чтобы государство могло благополучно отнять у собственников то, что они приобрели в капиталистической формации.
Таким образом, один парадокс накладывается на другой, еще более глубокий. «Социализм», построенный в результате русской революции и затем охвативший треть мира, действительно, оказался подозрительно похожим на восточную деспотию. Но это произошло не в результате отклонения от предначертаний марксизма, а в итоге их последовательного воплощения, ибо ничто иное и не предполагалось «Манифестом коммунистической партии».
Поэтому совершенно нелепой, приклеенной выглядит знаменитая концовка этой главы: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Откуда берется «свободное развитие каждого», если всеми предыдущими тезисами у этого «каждого» отнята частная собственность, земельный надел, право наследования и даже семья: провозглашается «общность жен» и «общественное воспитание детей»? Попытка соединить азиатский способ производства с протестантско-романтическим, глубинно европейским понятием свободного развития личности, — это удивительный случай гротеска, по-своему уникальный в истории социально-политических учений.
А дальше свой вклад в этот гротескный марксизм внес В. И. Ленин своей книгой «Государство и революция», с одной стороны, доктринерски марксистской («диктатура пролетариата»), а с другой — совершенно фантастической по тем конкретным политическим мерам, к которым она призывала. Теорию от практики отделял всего один месяц, в сентябре 1917-го книга была завершена, а уже в октябре грянула революция. Вот как Ленин предвидел эту диктатуру в действии:
«Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет этого, контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответственных расписок».[8]
Так и видишь, как большевики, придя к власти, займутся четырьмя арифметическими действиями и выдачей расписок. Очевидна полная фантасмагоричность этих идей — не только в свете последующей истории, но и заведомо, в рамках логики и здравого смысла. «Вооруженные рабочие» (лейтмотив всей ленинской книги) — они кто, рабочие или военные? Одной рукой точат детали, а другой — стреляют? Много ли пролетариев приняло участие в управлении государством при «диктатуре пролетариата»? Как известно, итогом Октябрьской революции стало возрождение азиатского способа производства на основе индустриальных технологий ХХ века. А это и есть гротеск в прямом смысле слова: уродливо-трагикомическое сочетание несочетаемого.
[5] Karl A. Wittfogel. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (New Haven and London: Yale University Press, 1957). Одной из структурных причин возникновения такого способа производства Виттфогель считает необходимость больших ирригационных мероприятий, для требующих концентрация всех средств производства в руках государств — он их даже называет «ирригационными империями» («hydraulic empires»). Рассматривая не только Азию, но и государства Древнего Востока и Южной Америки, Виттфогель заключает, что в СССР был построен современный вариант деспотии, основанной на «азиатском способе производства». Интересно, что одним из самых наглядных достижений «социалистического» хозяйства, «гордостью первой пятилетки» стал, как в древних ирригационных империях, Беломорканал, построенный в 1931-33 гг. руками заключенных. Среди строителей были философ А.Ф. Лосев и филолог Д.С. Лихачев. Из 300 тысяч строителей 100 тысяч не пережило стройки.
[6] Дискуссия приобрела особо острый характер в 1970-е — 1980-е гг., на закате коммунистической эры. Hindess, Barry, and Paul Hirst. Pre-capitalist Modes of Production. London: Routledge and Kegan Paul, 1975; Sawer, Marian. Marxism and the Question of the Asiatic Mode of Production. The Hague: Nijhoff, 1977; Godelier, Maurice. The Concept of the “Asiatic Mode of Production” and Marxist Models of Social Evolution. In Relations of Production: Marxist Approaches to Economic Anthropology, ed. David Seddon, London: Frank Cass, 1978, 209-257; Dunn, Stephen P. The Fall and Rise of the Asiatic Mode of Production. London: Routledge and Kegan Paul, 1982; Качановский Ю. В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? M., Наука, 1971. С немарксистских позиций в СССР первым об этом написал И. Р. Шафаревич в своей книге «Социализм как явление мировой истории» (Париж: YMCA-Press, 1977).
Источник